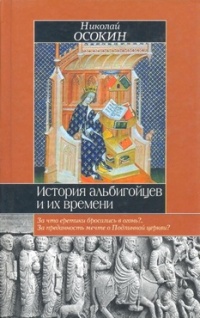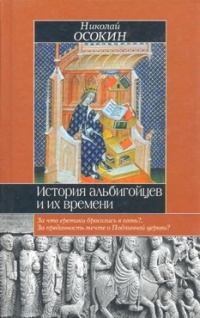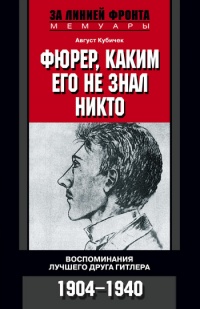Книга Восстание. Документальный роман - Николай В. Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вновь степлело. Снег потяжелел, задул южный ветер. За несколько дней мы сняли урочище и паковали инструменты, когда пришла радиограмма. Разведка сообщала, что не менее недели немцы будут заняты перегруппировкой сил, поэтому, раз уже март и скоро болото начнет таять, надо срочно отправляться на острова Высокий, Доманец и Межник и корректировать карту, пока дозволяет погода. Интендант под ненавидящими взглядами роты выдал нам несколько банок шпрот, мешок пшенки, буханку черного на каждого, и мы отправились. Только выйдя на край болота, мы поняли, насколько оно огромно: острова, лежавшие, казалось бы, в нескольких километрах от берега, были неразличимы. Будто и не было долгих месяцев мороза — болото дышало сквозь снег, и вокруг черного льда заводей желтела трава с налипшей прозрачной коркой. На привале я увидел островок рогоза в окружении кочек и, решив, как в детстве, срезать себе из него трубу и подудеть в нее, скинул лыжи и сделал несколько шагов, как вдруг кочка беззвучно провалилась, и трава вокруг стала черной. Вода подо льдом, качнувшись и растянув пузыри воздуха, успокоилась, но больше мы лыжи не снимали. Иногда я видел, как подо льдом шевелятся, распускаясь и схлестываясь, косы аира. Уже в нескольких километрах от берега мы обернулись и увидели кирпичную церковь, высокую, разбитую снарядами, с горестно склоненным набок, но еще не упавшим куполом. В бинокль были видны внутренние стены, выложенные чем-то белым, видимо, мрамором, резные каменные столбы царских врат и уцелевшие фрески: лики, куски бороды, ноги в тупоносых сандалиях, кисти и плечи святых.
Справа возник первый остров, конусовидный. Сначала он сливался с лесом, а потом как бы выступил из него. Приблизившись, я понял, насколько был прав разведчик, велев снимать болото сейчас. К Домше и к другим островам невозможно было подступиться иначе как зимой — их окружали пронницы, гиблые места со смертельным сапропелем. На последнем привале, чтобы охолодить лицо, я взял горсть снега. Он пах сосновой пыльцой и немного горчил. Сам остров мы обошли за полчаса, найдя часовню с картонной иконой святого Николая. За часовней обнаружился и домик, старый и пустынный, будто выметенный изнутри. Мы затащили в сени инструмент, нашли под соснами кое-какие сорванные ветром ветви и растопили буржуйку. Видимо, здесь жили летом, но кто, бог весть. Два дня мы снимали Домшу, и вечерами, приткнувшись к печи, я исправлял карту. Со всех сторон болота висело молчание, и лишь редко в небе мелькали немецкие самолеты, летящие на юг к окруженному Холму. Однажды самолет протащил за собой планер, почти таких же размеров, как он сам, явно с грузом, а может, и с солдатами, а спустя час вернулся без него.
Едва мы закончили съемку, как начался снегопад. Заводи и протоки засыпало белое. Наутро шорох снегопада стих и над островом повис клочьями туман. Когда мы уходили, из часовни недоуменно глянул святой. За круглой заводью я выбрался на кочку повыше, взял свою трубу из рогоза и осторожно подул. Звук был уныл и скучен. Над болотом продолжил растекаться туман. Идти было трудно, потому что снег налипал на лыжи и хотелось пить. Доманец оказался мал и пустынен. Мы потратили на него день, развели костер, расстелили плащ-палатку и заснули будто с пьяных глаз. А вот Межник назавтра отыскался с трудом в обволакивавшем нас молоке. Он был огромнее, чем на карте, почти безлесен и скошен в сторону юга. Из тумана выступили углы срубов и крыши и где-то в стороне прошелестело невидимое животное, возможно, кошка. Близнецы осторожно покатили вперед по улице. Дом, где жили люди, явился скоро — он был облеплен снегом, из-под которого с суровостью, поджав губы, глядели окна. Над колодцем стоял, потупившись, журавль.
Человека мы обнаружили рядом, в риге, он сидел, обутый в валенки, и рассматривал исчерканную бумагу. Рига была совершенно пуста, по ней мел снег. Его руки мелко бегали в рваном мешке, вздрагивая и ощупывая его изнутри. Затем он стал вынимать из мешка свертки, кульки, не обращая на нас внимания. Развертывал, перекладывал, удивлялся, уходил в дом, не спешил возвращаться. Вытряхнув все, что было, руки успокоились, и он посмотрел на нас белесыми глазами и указал рукой на крыльцо. Мы поднялись, прошли сквозь сумеречные сени с лестницей в подклеть, заглянули в комнату и увидели, что человек уже возвышается за столом. Он взял с отдельной полки деревянные ложки и тарелки, ровные, нецарапанные, и разложил перед нами. В углу темнело что-то знакомое, я пригляделся и увидел толстые, с расслоившимися корешками книги и доски.
«Здесь-то всегда беглые жили, сто лет жили, не меньше. Сначала кто в солдаты не хотел пришли сюда с семьями и дома построили. Рыбы — вот так, лес рядом, остров большой, даже рожь сеяли. Вокруг-то все знали, что болото гиблое, ничего тут не вырастишь, никому оно не нужно и соваться сюда не след. Один сунулся землемер, межевал землю вокруг Холма, туда, сюда ходил, допытывался, где чье. Дак на него смотрели весь день, пока работал, а потом стукнули топором и в подземную речку бросили. Есть тут речки, в которые шагнул и под торфяники провалился, а там поток течет быстрый, коли попадешь в такой, то навек под землей заснешь. А землю-то все равно разделили. Как-то так вот, поперек острова, одна половина пскопская, другая новгородская, потому и назвали остров Межником. Отец мой сюда с другими жиловыми пришел, бежали они с-под Ярославля. Беглые их не тронули, мы тоже ведь так назывались — бегуны. А то, что раскольники… Кто к свободной жизни привык, того такой же вольный брат не испугает. „Жиловые“ значило, что отец вот держал комнату дальнюю не для нас, а для странников. Странноприимцы мы. Приходил кто из единоверцев, бегунов, туда и селили его. Прятаться на болоте не от кого, а кто в городах из жиловых оставался, те, бывало, подземный ход копали на случай, коли придут раскольников арестовывать. Так и жили. Кузнец меж нас был, рудознатец, он соляную яму раскопал, и ели мы с тех пор с солью. Церковь-то вон на берегу, да мы не ходили туда никогда, священников у нас не было, всех-то пожгли еще при Петре. А что цари кончились, узнали, когда с колхоза зимой пришли. Тогда переписать всех хотели и пугали, что солдатов с ружьями пошлют, и тогда все, кто жил, да и отец-то с матерью моею и братьями, бежать решили и возвращаться по лету, а я, старший, остался за домом смотреть. Живешь тут, день и день, месяц и месяц, все проходит, как будто сны вишь. А во сне и свет тот же, и ты тот же — а всё не так. Тот же да не тот. Всё как у нас, да не наше-то. Ты как кусочек, вишь, да не ты. Всех знашь, а они-то не они. Как в речке это: отражашся ты, а ведь не ты же. И сон мне один приходит, бутто попали мы с младшим братом на остров, если посмотреть так сверху, на желудь похожий. Там лес стал цепляться, и все руки исцарапал. Выходим на тропу, а по ней кто-то шел, трава разгибается. Бежим и нагоняем людей, а потом видим их сверху, точно нас на сосну посадили. Впереди идут двое такие вот: он как будто витязь с саблей, в длинной такой вот шубе, и лик у него незримый, а она с платком, и на нем птицы вышитые. За ними другие, много, и у всех глаза-то закрыты. Мы за ними. Лес кончился уже, и они выходят в поле. Она отпускает платок с птицами, и птицы его уносят, они с незримым заходят в небо, а те, что с глазами запахнутыми шли, полегли. Витязь оборачивается, он высокий, вполнеба, на голове-то высока шапка, а на ней филин, и крылья его длиннющие, и летит он с шапки и накрывает землю крылами, а витязь смотрит на нас. Пред войной последний раз сон этот видел и как проснулся, так понял, что хоть отцы сны ересью считать велели, а все равно ж людей поубивают тыщчи и непохороненных будет полболота. Коли сон мне такой снился, так не буду ему следовать и верить не буду, но мертвых, полегших закапывать стану. Хоть бы и без домовины, а рядышком положу, и посмертье им выйдет и тем успокоятся».