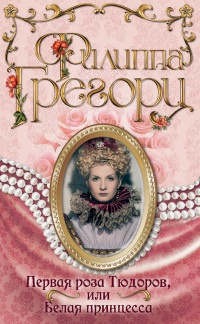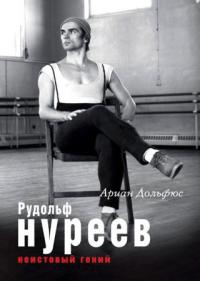Книга Рудольф Нуреев. Жизнь - Джули Кавана
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В мае 1990 г. наконец состоялась встреча с Берже (на нейтральной территории, у Марио Буа). Чтобы скрепить свои новые отношения с Оперой, Рудольф объявил, что будет ставить «Баядерку». Достать оригинальную партитуру Минкуса не представлялось возможным, но, когда Рудольф был в России, он отыскал оригинал и с помощью Дус сделал пиратские фотокопии, которые она затем контрабандой пронесла через таможню под одеждой. «Баядерку» Рудольф считал шедевром Петипа – единственный полноразмерный русский классический балет, который он всегда хотел принести на Запад. «Без [нее] не было бы «Лебединого озера». А поскольку она стала произведением француза, а на либретто сильно повлияла «Шакунтала» Теофиля Готье, «Баядерка», по его словам, по праву принадлежала Франции. «Я вернул ее на родину». Помимо того, для Рудольфа этот балет стал своего рода притчей, так как в нем воспроизводились его несчастные отношения с балетной труппой Парижской оперы. «История любви, которая плохо кончилась. Это предательство. Совсем как в «Баядерке».
Опера, как он признавался Элизабет Кей, сама не могла решить, до какой степени ей хотелось сохранять с ним связь. «Им нужны мои балеты, но они не хотят, чтобы я был рядом… Они хотят сделать то же, что много лет назад сделал Лифарь с Баланчиным. Его вытолкали. То же самое они сделали с Фокиным. А до того – то же самое с Жюлем Перро». Но, испытав в Париже горечь и неблагодарность – «Никто не умирает от желания изучать мой багаж знаний»… [обучение – ] «черствый хлеб и полная неблагодарность», – за время короткого периода работы с «Королевским балетом» он снова стал тем, кого Моника Мейсон назвала «Рудольфом двадцатилетней давности. Можно было почувствовать, что испытывали по отношению к нему танцовщики. Он был теплым и любящим; он разговаривал с ними, смотрел на них. С нами он был самым бескорыстным, уступчивым человеком. Он так верил в этот вид искусства, что, чем больше людей он мог заразить своей страстью, тем лучше себя чувствовал».
Рудольф поехал туда по случаю гала-представления «Ромео и Джульетты», целью которого был сбор денег для Марго. «Она в самом деле тогда жила очень скудно, – сказал Джон Тули, который, став генеральным директором, в 1980-х гг. не раз помогал балерине финансово. – Однажды она позвонила и сказала, что ей вот-вот урежут медицинскую страховку, но, когда я предложил устроить для нее бенефис, она стала пылко сопротивляться». «Я не могу, просто не могу это принять», – призналась Марго близкому другу, находя бенефис слишком унизительным. Тули, который к тому времени ушел из Ковент-Гардена, придумал, чтобы пожертвовать сбор фонду молодых танцовщиков, проценты от которого пойдут Марго. На это она согласилась, хотя ей по-прежнему не хотелось приезжать самой. «Рудольф, кажется, пытается меня шантажировать, чтобы я приехала на гала-представление 30 мая! – писала она Мод из Панамы. – Мне это будет нелегко, и я еще ничего не решила. Надеюсь, что он в любом случае будет танцевать Меркуцио».
С Сильви Гийем и 27-летним Джонатаном Коупом в роли возлюбленных труппа планировала найти молодого Меркуцио, но Рудольф не только воспринимал как данность то, что танцевать в этой роли будет он, Марго объявила, что «не пускать его танцевать – преступление». (Как однажды сказала Мария Толчиф, «Он по-прежнему оставался ее Ромео. Ее Арманом». И Мод испытывала те же чувства. «Они должны позволить ему станцевать Ромео».) На самом же деле Рудольф терпеть не мог Меркуцио в версии Макмиллана, особенно сцену смерти, – «Она все длится и длится, это неловко», – и вместо того, чтобы репетировать, он остался в постели на Виктория-Роуд.
Зрителям, пришедшим на гала-представление (среди них были принцесса Диана и принцесса Маргарет), казалось совершенно естественным, что Рудольф будет выступать для Марго, «моего милого сердечного друга», но немногие знатоки могли смотреть на сцену. «Душераздирающее зрелище, – вспоминает Моника Мейсон. – Конечно, мы все понимали: то же самое случится и с нами». Стивен Шерифф, стоящий за кулисами, подбадривал исполнителей. «Я старался развеселить его, говоря: «Вперед, Рудольф!» Но он понимал, насколько он ужасен. Он понимал, он понимал».
Не желая никого видеть после спектакля, Рудольф ждал такси у служебного входа, когда к нему подошла Аня Сейнсбери и сказала, что его ищет Марго. «Я ей не нужен», – буркнул он, но Аня сказала, что он ее очень огорчает. «Я просила его остаться, и он остался. Но он был по-настоящему расстроен из-за чего-то». Дело было не только в жалком исполнении – тогда он последний раз вышел на сцену театра Ковент-Гарден, – но вид Марго, чье переливчатое платье от Сен-Лорана не скрывало ни тяжелой болезни, ни истощенности. В Париже, когда они в последний раз ужинали на набережной Вольтера, она была в прекрасной форме, и, сидя с ней рядом, Рудольф явно наслаждался каждой секундой их совместного пребывания. «Он был с ней таким же нежным, – вспоминает Стивен Шерифф, – как и с Мод». Они вспоминали старые дни, и Стивен слышал, как Рудольф сказал: «Ты была балетом». «Нет, – ответила Марго, потянувшись к руке Рудольфа. – Мы были балетом».
Однако теперь Марго, которая не могла ходить без трости, так ослабела, что за ужином накануне Рудольф вынужден был нести ее вверх по лестнице. И хотя в прошлом они всегда приходили друг другу на помощь – «в таких вещах, с которыми невозможно справиться в одиночку, можно справиться только вместе», – ни один из них не признался другому в своей болезни. «Вы две родственные души, – сказала близкая подруга Марго Ана Кристина Альварадо. – Для них почти унижение говорить об этом». Рудольф был потрясен, когда Линн Барбер из The Observer спросила во время интервью, станет ли для него большой потерей смерть балерины. («Такое даже вслух произносить нельзя!» – возмущался он позже при Мод.) Барбер он ответил: «Почему, почему мы должны говорить об этом? Она выглядит очень хорошо, английские врачи дали ей не одну неделю, но она уехала, она перенесла операцию, держится бодро, регулярно проверяется…»
Ему очень хотелось чем-нибудь побаловать Марго – «Ах, поведи ее туда, сюда», – но через несколько недель она вернулась в Хьюстон на лечение, и он лишь мог распоряжаться, чтобы ей переводили деньги, чтобы помочь с оплатой. Жаннет помнит телефонные звонки и «смешной детский рюкзак», который он хотел послать Марго. Романтически напоминая об их «Маргарите и Армане», Рудольф просил поставить в ее палату камелии, но у флориста оказались только орхидеи. Преодолевая страх перед больницами, он несколько раз летал в Хьюстон, хотя никогда не задерживался надолго. «Он не мог видеть Марго такой. Это разбивало ему сердце», – сказала Ана Кристина, живо вспоминая разыгранную им комическую сценку, когда балерина возражала против того, чтобы ей ампутировали ногу.
«Рудольф сказал: «Что плохого в костылях? Ты потеряла одну ногу? У тебя есть другая. Слушайся доктора Бенджамена. Ты должна вести себя хорошо. Эту штуку [он никогда не говорил «рак»] надо вырезать. Терять ногу нетрудно. Будешь скакать». Марго смеется и берет телефон, чтобы поговорить с врачом. «Рудольф считает, это очень хорошо, что мне сделают операцию. Он думает, что после этого я поправлюсь». Рудольф выходит. В коридоре начинает плакать, как ребенок».
И он не мог совладать с собой, когда сознание Марго начало блуждать. Они разговаривали по телефону, когда он находился на острове Сен-Бартельми, но все казалось каким-то бессмысленным. «Рудольф сидел сам не свой от горя. «Я не могу… – сказал он. – Она ушла… Не понимаю, что она говорит, или…» Блу взял у него телефон, и Рудольф зашагал прочь.