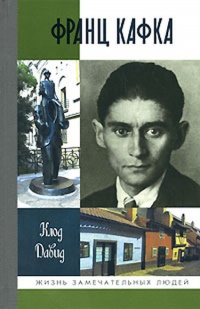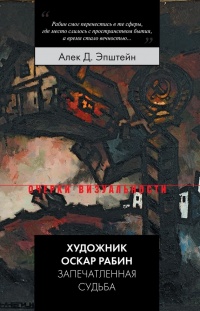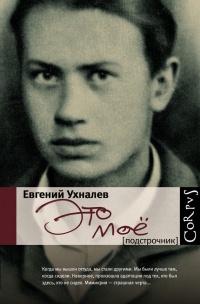Книга Сорок дней Муса-дага - Франц Верфель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Некоторое время Арам Товмасян бесцельно бродил по Дамладжку, но затем спустился по крутой тропе к берегу, чтобы вновь посвятить себя неразрешенным проблемам ловли рыбы. Сокрушаться он не сокрушался, однако с испугом установил, что час от часу в нем растет упрямство. Лучше уж не дожидаться общего схода, не ставить на голосование никаких предложений, а просто-напросто с Овсанной и ребенком скорей уйти. Геворка-плясуна можно взять с собой как слугу. Отца, правда, придется оставить, он не согласится на побег. Пловцы ведь преспокойно прошли мимо Арзуса до самой Александретты. Почему же его маленькой семье за три ночных перехода вдоль берега не добраться до Александретты? Не прогонит же консул Гофман, протестант — протестантского пастора? Приютил же он пловцов! С саном, правда, после таких позорных провалов придется расстаться. Товмасян нащупал в кармане бумажник — пятьдесят фунтов! Большие деньги!
Он сидел, уставившись на прибой у своих ног, лицо его отражало душевную борьбу. А Искуи?
Впрочем, планам ни Габриэла, ни Арама не суждено было осуществиться. До голосования дело тоже не дошло. Плотина ведь рушится задолго до того, как поток достигнет ее гребня, и обычно в самом неожиданном месте.
Неподалеку от Южного бастиона, на морском склоне Дамладжка, раскинулась широкая, поросшая высохшей травой поляна. На ней-то и расположились Саркис Киликян и многоумный комиссар этого сектора обороны Грант Восканян. В нескольких шагах от них Длинноволосый с двумя другими дезертирами с сомнительным прошлым затеяли игру в ракушки, сопровождая каждый ход партии весьма благозвучными восклицаниями на всех диалектах Сирии. Учитель своим красноречием старался расположить к себе Киликяна и говорил нарочито громко, чтобы и разгулявшиеся игроки услыхали кое-что из его сверхсмелых реляций. Однако на все заигрывания Коротышки Киликян отвечал упорным молчанием, развалившись на голой земле и посасывая холодный чубук Грикора.
— Ты же образованный человек, в университетах науки изучал, Киликян, — распинался курчавый вития, — один только ты и можешь меня понять. Понимаешь, почему я всегда молчал? Да потому, что я дорожил своими идеями. С аптекарем даже ими не делился, а он воспринял многие мои взгляды и суждения. Ты хорошо знаешь, жизнь, Киликян, она с тобой круто обошлась, как мало с кем. Да и мне досталось, хотя, может быть, ты и думаешь: Грант Восканян весь свой век проторчал в грязной деревеньке, учителишка он, да и только! Но ты не знаешь Гранта Восканяна! У него ведь есть идея! И хочешь знать, какая? Пора кончать, понимаешь, кончать надо! Нет другого пути!
Саркис Киликян, опершись на локоть, приподнялся и размял пальцами остатки подаренного табака. Остальные дезертиры мешали чистый желтый табак с сухими листьями, а Киликян курил его, не смешивая, хотя и знал, что из-за этого запас его кончится в два раза быстрей. Сейчас Киликян молчал, и в этом, пожалуй, намного превзошел бывалого молчуна Гранта Восканяна. Но у учителя молчание Киличяна вызвало хвастливое словоизвержение, в котором то и дело попадались искаженные и опошленные обрывки Грикоровских мыслей.
— Ты же понимаешь меня, Киликян, так же, как понимаю тебя я. Потому ты и молчишь. И ты, и я, мы оба с тобой знаем, что бога нет. Да и зачем он? Ерунда какая-то! Весь мир — один ком грязи! Крутится себе — и все. Сплошная химия и астрономия, и больше ничего там нет. Хочешь, покажу тебе звездную карту Грикора? Там все показано. Природа — и больше нет ничего. И если уж кто-нибудь способен был ее сотворить, то только сам дьявол. Свинство одно вся эта природа, грязное свинство! Но последнего она нас, Киликян, лишить не может. Ты-то уж понимаешь меня. Можешь ей в рожу плюнуть, осквернить, силу ей показать, а можешь и уйти от нее. Вот в этом и кроется моя идея. И я — Грант Восканян — маленький, неказистый, я и природу, и самого черта, и господа бога — всех поставлю на место! Накажу и разозлю. Пусть ядом изойдут господа эти из-за учителя Восканяна. Ничего они не могут против меня, и ты понимаешь это. Я уж и людей подобрал — соображают, чего я хочу. Ночью я по шалашам пройдусь, и ничего тут Тер-Айказун не поделает… Видал, как этот дурак Геворк мертвецов со скалы в море кидал? Будто птицы белые летели. Вот и я это замыслил. И мы тоже так улетим, и ты, и я, и все другие, и будет это лучше, чем если перебьют нас всех. Один шаг — и нет тебя… еще задолго до того, как ты до воды долетишь. Понял? А там в море мы растворимся. Это мы сами для себя выберем — и пусть природа, сам дьявол, турки и все остальное жулье лопнут от злости, потому как мы проучим их, в дураках оставим… Только ты, Киликян, можешь понять меня.
Саркис Киликян давно уже опять лег на спину. Живой мертвец, он будто в летаргическом сне не сводил застывшего взгляда с бегущих по небу облаков. Слышал ли он только что гимн самоубийству или нет — нельзя было сказать. Длинноволосый же, напротив, прервал игру и внимательно посмотрел на хитроумного победителя природы, как будто вполне понял «идею» и даже находил, что она недурна. Затем придвинулся чуть ближе:
— А ящиков у них там много? В Трех шатрах?
Учитель удивился. Неужели он попусту говорил? Да и упоминание Трех шатров всегда задевало его за живое. Но, с другой стороны, сейчас представилась прекрасная возможность показать всем этим зазнайкам, кто он таков. Он нотабль, образованный представитель знати, избранный народом вождь! Вся последующая речь Восканяна была чем-то средним между похвальбой и жаждой высказать презрение.
— Разве там только ящики? Это что! У них там шкафы и чемоданы тоже как шкафы! В них столько платьев, сколько не сшить и богатею паше. И все разные. Она не только каждый день, а трижды в день новое платье надевает. Утром — просторное розово-голубое. Похоже на шикарный чаршаф, только без чадры. В обед она надевает какое покороче, ноги видны. А уж туфли — меняет не три, а шесть раз в день. Но это все ничто по сравнению с тем, что она вечером носит…
Длинноволосый протяжным зевком перебил перечисление, в которое завлек Восканяна его поэтический дар.
— Какое мне дело до платьев? Мне надо знать, какой у них там провиант припрятан.
Восканян вскинулся. Лицо его так густо заросло колючей щетиной, что свободными остались только небольшие желтые пятна под глазами.
— Это я вам точно скажу. Никто лучше меня не знает! Когда паковались вещи, меня ханум на помощь позвала. Серебряные банки — рыба в них в масле плавает. Чего-чего только нет. И сладкие хлебцы, и печенье, и шоколад… А сколько кувшинов вина! Целые ведра с крупой, американская ветчина, овсяные хлопья…
На овсяных хлопьях Восканян перевел дух. Ему стало вдруг очень гадко. До его сознания дошла вся низость, вся подлость, до которой он опустился, оттого что его любовь отвергли. Узкий лоб его покрылся испариной. Он уныло хлопнул себя по колену:
— Пора кончать… Кончать пора…
Саркис Киликян проворчал:
— Так и сделаем… Завтра вечером…
От этих лениво оброненных слов у коротышки учителя похолодели руки и ничуть не стали теплее, когда Киликян коротко и хладнокровно изложил свой замысел. Восканян не сводил глаз с лица Киликяна, ушам своим не поверил, узнав то, что гарнизон Южного бастиона давно уже считал делом решенным.