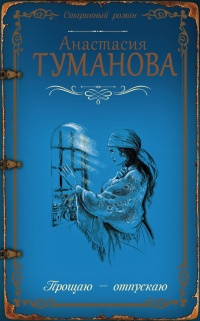Книга Отворите мне темницу - Анастасия Туманова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Ты, Закатов, теперь – старик, безутешный вдовец и одинокий папаша.» – с насмешливой горечью думал он. – «Только и остаётся, что дорастить Машу до замужества – а там уж с чистой совестью застрелиться. И кончится, наконец, весь этот кошмар… Стоило столько лет его длить! Вся твоя жизнь – нелепая, унылая, ненужная кишка, которая тянется, тянется… и никому от неё ни счастья, ни радости. И в первую очередь – тебе самому. Даже Настю не сумел уберечь – супруг, мужчина… Кому ты теперь нужен… да и кому был нужен хоть когда-нибудь? Вера считает тебя малодушным трусом – и она тоже права. Твоё предназначение в жизни – приносить всем беду. Так, может, довольно, наконец?.. Твоё счастье, что Дунька оказалась умницей и не позволила отправить эти письма… тьфу, позорище! Если бы до Веры дошло хоть одно… Трезвым, небось, ни разу не решился ей написать, духу не хватало, а спьяну… да ещё недели не прошло, как Настя умерла… Ну что ты за сукин сын, Закатов?!.»
Скрипнула дверь. Никита обернулся.
– Дунька, тебе чего? Что-то с Машей?..
– Спит Маняша, не беспокойтесь. – нянька не спеша вошла в комнату. – Сами-то пошто свечу жгёте? Ночь-полночь…
– Не знаю. Не спится. А ты ступай.
– Сейчас, только огарок вам переменю. А то вон уж совсем фитилёк плавает… Да уйдите вы от окна-то! Может, книжку какую потолще принесть?
– Какие теперь книжки, Дунька… – отмахнулся он. – Иди спать.
Дунька не послушалась. Закатов слышал, как она меняет свечу в старом медном подсвечнике. Вскоре шаги послышались совсем близко: Дунька подошла и встала у него за спиной.
– Полно, барин, не убивайтесь. Что ж поделать, коли божья воля… Авось голубушке-то нашей, Настасье Дмитревне, на небе легче, чем нам тут. Верно, Господь в ангелицы её взял за кончину мученическую… Сами видите, даже я уж не реву. А уж поболе вашего барыню-то любила!
– Я её вовсе не любил, Дунька. – Закатов, не отрываясь, смотрел на снежные сполохи за окном. – И она меня тоже. Удивительно бессмысленной вышла эта наша жизнь…
Дунька ничего не ответила. Закатов отошёл от окна; сел на старый скрипучий стул, опустил голову. И ничуть не удивился, когда Дунька, подойдя, спокойно обняла его.
– Экие глупости несёте, Никита Владимирыч… Право, слушать совестно. – задумчиво выговорила она. – Любили, аль не любили – какая разница? Жили-то по-доброму, не сворились. Вы голубушку мою не обижали. И никакого безмыслия тут не было, ибо сказано: «Плодитесь и размножайтесь». Про Маняшу-то нешто забыли? Али и она вам безмыслие?.. Полно убиваться, Никита Владимирыч. Христос терпел и нам велел, смиритесь…
От Дуньки пахло квасом, ржаным хлебом, молоком. Ни о чём больше не думая, Никита ткнулся в её грудь, в грубый холст рубахи. Шершавая ладонь погладила его по волосам, и две тёплые капли одна за другой упали ему на голову.
– Мне плакать не велишь, а сама-то?:..
– А мне можно, я дура-девка. – всхлипнув, отозвалась она. – Ложитесь, барин, спать, Господь с вами…
– Не уходи. Прошу тебя, останься.
Короткое молчание.
– Воля ваша.
Дунька ушла лишь под утро, бесшумно скользнув за дверь, когда из-за стены послышался жалобный писк проснувшейся Маняши. Оставшись один, Закатов перевернулся под одеялом, обнял смятую, горячую подушку и уснул мёртвым сном.
Он был бесконечно благодарен Дуньке за то, что она незаметно и ловко взяла в руки хозяйство, девичью, скотный двор. Всё делалось и спорилось, в комнатах было чисто и сухо, из девичьей, как при Насте, доносились жужжание прялок, стук ткацких станков, песни и смех. Коровы доились, куры неслись, и барину, слава богу, не нужно было вмешиваться ни во что. Но самой главной Дунькиной заботой по-прежнему оставалась Маняша: «цыганский выкормыш.»
То, что Манька родилась смуглой и черноглазой, никого не удивило. Настя и сама была такой: в роду её по материнской линии имелись татарские князья. Но ухватки у младенца были и в самом деле самые что ни на есть бродяжьи. С первых же дней юная графиня Закатова не признавала пелёнок, буйно расшвыривая их пятками и протестующе вопя, когда нянька пыталась спеленать сучащие ножки. Она рано и села, и пошла, – и покоя в доме не стало никому. Стоило на миг отвернуться – и смуглый комочек в рубашонке выскальзывал за дверь. Дважды Маньку ловили в огородных грядках, трижды – на скотном дворе, несколько раз – застрявшей между палками забора. А однажды барышне даже удалось добраться до дороги и счастливо завалиться в грязь рядом с деревенской свиньёй – совершенно ошалевшей от такого общества.
«И до чего ж дитё убегучее – просто сладу с ним нет!» – жаловалась Закатову Дунька. – «Это ж никакого здравья не хватит цельными днями за нею носиться! Вот, барин, что цыгане-то ваши понаделали! Прямо сразу ж, с места не сходя, и сглазили! Сущее перекати-поле вышло, а не графиня! У меня времени недостаёт – так уж Агашка с Фенькой с ног сбились, за Марьей Никитишной по двору летая! Только-только сидела на половичке, нитки из него тянула, как приличная барышня, – и вдруг разом нет! И не видать! Ума не приложу, что и поделать! Ведь, не ровён час, в колодец свалится! Запирать её, что ли, от греха?»
«Только попробуй! Ума ты, что ли, лишилась? Запри лучше колодец, пусть Авдеич крышку приладит!» – содрогался Закатов. – «А если Агашка и Фенька не справляются, возьми ещё девок, – но пусть бегает куда хочет!»
«Разбалуете, барин!» – грозно предрекала Дунька. – «После локти обгрызёте!»
Но в глазах суровой няньки прыгали лучики. Она до беспамятства любила своё «дитятко». Маняше была предоставлена полная свобода. Закатов не знал, правильно ли поступает, отчётливо понимая, что ничего не смыслит в воспитании детей. Но стоило крошечной Маньке всхлипнуть – и у него падало сердце, и он точно знал: никогда в жизни он не вынесет горя этого крошечного существа.
Закатов хорошо помнил собственное безрадостное детство: мать умерла родами, отец никогда не интересовался сыном, и Никита вырос как лопух под забором – никому не нужный, не ждущий ни от кого ни любви, ни ласки, ни внимания. О том, что такие вещи есть на свете, он узнал лишь позже, попав в семью своего друга Мишки Иверзнева, где все любили друг друга до самозабвения. Закатов несколько раз ловил себя на мысли, что, размышляя о дочери, он невольно думает – а что сказала бы по этому поводу Мишкина мать? А Вера? А сам Мишка?
Они дружили с детства, с кадетского корпуса, и только Мишке Закатов мог иногда открыть душу – делая это, впрочем, неохотно и долго мучаясь потом собственной искренностью, словно дурным поступком. Мишка всегда полусерьёзно, полушутя обижался на эту замкнутость друга: сам-то он жил нараспашку и искренне не понимал, что за тайны можно скрывать от близких людей. У Закатова отродясь не было никаких тайн, но изливать сердце он так и не выучился, – да и большого смысла в этом не видел. При этом солгать Мишке он не мог никогда. И посему, обвенчавшись с Настей, так и не решился написать об этом другу. Почему-то именно перед Мишкой было смертельно стыдно за эту безрадостную, торопливую женитьбу. Как было писать о том, что женился на едва знакомой соседке, оставаясь без памяти влюблённым совсем в другую женщину? Что связал свою жизнь с совершенно чужим человеком лишь потому, что мучительно не хотелось зимовать одному в ненавистном отцовском доме? Мишка никогда не смог бы этого понять. И Закатов, день ото дня собираясь написать другу, так и не заставил себя сделать это. И, скорее всего, их дружбе с Мишкой пришёл бы конец, если бы год назад не разболелась Маняша.