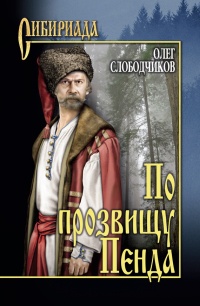Книга На государевой службе - Геннадий Прашкевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вином поили, табак давали. Всех уронило, повалило вино.
«Наша еда такая вот вкусная, – русские сказали. – Наша вода такая вот веселящая. Вас всех таковой едой кормить будем, вас всех таковой водой поить будем. Нам сдадитесь?»
«Вам сдадимся».
«Нам ясак понесете?»
«Понесем».
Полярная куропатка долбила ночное небо.
В пепельных сумерках дрались в ветвях лиственницы пуночки.
Продрог, обходя избу Ларька Трофимов. Останавливаясь, завистливо прислушивался: вдруг страшно возвышался храп в теплой избе. Ухмылялся, когда кто-то выскакивал на крылечко справить малую нужду. Грелся, прислонясь спиной к боку теплого оленного быка.
Глухо.
Долгий сон изломал тело.
Свешников ворочался, вздыхал в полусне.
Получалось, что все знал вож Шохин про вора Сеньку Песка. Так хорошо знал, что сразу решил пойти на Собачью. Каким-то уже известным ему путем. И сын боярский ждал его, не брал других вожей. Значит, сам все знал. Ведь поминали в острожке Пустом шепотом воеводу и еще что-то. А здесь на реке гологоловый дикует. Тоже, выходит, знает многое, как и некий торговый человек в Якуцке – Лучка Подзоров. Наверное, специально поднял воров этот Лучко, ссудил их тайным запасом, чтобы из утаенного от казны ясака получить свою часть? Подан ли был вожу тайный знак срубленной ондушей или наоборот пугали его, не хотели, чтобы поднимался к зимовью? Иначе зачем бы так ужаснулся стреле томар? Наконец, кто зарезал Христофора?
Поднялся.
В избе душно. Казаки ворочаются, постанывают. Длинный Ерила бьет ногой под одеялом, будто рысь на него накинулась. Почесывая бороду, продавил ледок в деревянной, неведомо как попавшей в сендуху кадке. Накинул кафтан, вышел на крылечко:
– Ларька!
– Здесь! – вырос послушно Трофимов.
Борода белая от инея, меховой капор заиндевел.
– Покойно стоял?
– Покойно.
– Растопи печь, потом отдыхай. Но сперва растолкай помяса.
– Это как? – удивился Ларька.
– Как получится.
– Так сшел помяс, нету его.
– Как сшел? Куда?
Ларька пожал плечами:
– Откуда ж мне знать? Забрал верхового олешка и сшел.
Рукой указал:
– На полночь.
Ну, на полночь – там льды, там тьма, там пуржит. На полночь не убегают. Это только в пьяных кружалах говорят, что на полночи, если уйти совсем далеко, будто открывается чистое море, настоящая голомень, а над морем – веселые острова. На самом деле не так. Герасим Цандин, опытный кормщик, сам дважды ходил на полночь. И оба раза деревянный коч намертво затирало льдами. Нигде ничего не встретил, кроме льдов. Так что, и помяс не потеряется.
Пепельный полумрак.
Подумал: весна идет. Ондуши черны, скоро покроются нежной зеленью.
А главное, подумал, успокаиваясь: знаем теперь – есть в сендухе живой зверь. Не зря пришли. Ходит по лужкам настоящий старинный, рука колечком, трубит за бугром. Замучаем себя, но опутаем зверя вервью.
Цыкнул на сунувшуюся к ногам собачку.
Вот тоже интересно: как выжил Лисай? Всех зарезали, а он дикует. И Христофора Шохина называет Фимкой. И кукашку носит богатую.
Подумал: стольник и воевода Пушкин Василий Никитич скуп, но тверд. Указывая на секретность похода, мало всего дал сыну боярскому Вторке Катаеву. Зато обещал, наверное. Много мог обещать. Наказывал, наверное, строго досматривать любое незнаемое зимовье. Если не на казну работает человек, у такого все досматривать – и зимовье, и сумы, и коробья. И если найдется утаенная мяхкая рухлядь, таких наказывать жестоко, а добро имать в казну.
Да, богатая у Лисая кукашка.
Сам обут в простые щеткари – в сапоги, пошитые из кожи, снятой с ноги олешка, головой бос, трясется, как русская осинка на ветру, а кукашка у него богатая. Так, конечно, не бывает, чтобы совсем бедный человек ходил в такой богатой кукашке, и ничего другого бы совсем не имел. Ведь сам намекал на некие курульчики. Там, наверное, не только трава. Может, так рано метнулся в сендуху, чтобы перепрятать некоторое добро из одного курульчика в другой?
– Здоров ли?
Обернулся – Гришка Лоскут.
Прямо с утра хмур. Борода спуталась, ноздри вывернуты.
А из-за Гришки выглянул, хлопнув дверью, Косой. Этот худой, веселый, положил крест:
– Ну, смердит из казенки! Ну, несет носоручиной!
– А ты чего ждал?
– Я-то ничего, – ухмыльнулся Косой. – Да уж очень богатая у помяса кукашка! Это при носоручине-то, да?
Федька Кафтанов, выглянул на крыльцо и услышал слова Косого:
– Да ты что говоришь? Какая богатая кукашка? Да ну!
Подчеркнул презрительным жестом:
– Такой она только кажется. А сама поношена, побита. Плешиветь скоро начнет. Я точно знаю, потому как терплю на ней поруху.
Объяснил, отворачивая хитрые глаза:
– Вы вчера как уснули, так Лисай пристал ко мне. Спать прямо не дал. Уж он и так, и этак. Ну, шепчет, понравилась мне твоя ровдужная дошка, Кафтанов. Разношенная, крепкая, видно, что шилась на крепкого человека. Отдай, дескать, мне свою дошку. Я, говорит, давно мечтал ходить в такой. А ты, говорит, бери в обмен мою кукашку, мне она надоела.
Помолчал, солидно пригладил бороду:
– Я согласился.
– Ну, дурак Лисай! – завистливо выдохнул Косой.
Выходили и другие казаки на крыльцо. Привыкая к зимовью, толкались, посмеивались над дураком помясом. Кафтанову никто не верил: побил, наверно, помяса, Федька? С некоторым особенным смыслом косились на Свешникова: что на такое скажет передовщик?
– А вон и помяс!
Со стороны дымящейся черной и одновременно синей, как грозовое небо, реки к зимовью напористо шел верховой олень с двумя вьючными сумами на коричневых боках. Рядом семенил Лисай. Подпрыгивал, как птица, прихрамывал, вскидывал длинными руками, но семенил бодро. И бедно, очень бедно выглядела на нем потертая и короткая кафтановская дошка.
– Ишь, вырядился! – посмеивались казаки. – Что такое везет? Неужто всем, как Федьке, хочет поменять дошки на собольи шубы?
Микуня еще издали крикнул:
– Здоров ли?
Помяс, трепеща, болезненно вихляясь, быстро перекрестился. На Гришку Лоскута и на Кафтанова глянул с ужасом. Длинной рукой похлопал по сумам:
– Носоручина. Для собачек.
– Зачем один ходил? – сердито спросил Свешников.
– А пожалел тебя. Ты хорошо спал. Ну, ровно робенок.