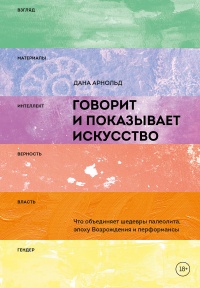Книга Что такое искусство? - Артур С. Данто
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Есть в этих картинах ‹…› и еще одно напоминание. Они напоминают нам о том, что вначале весь этот опыт был угрожающим. Заряженный возбуждением, он грозил смести хрупкие барьеры сознания, которые пытались его сдержать, и утопить наше незрелое, неустойчивое Я.
* * *
Мир, согласно удивительно наглядной характеристике Воллхайма, впервые познается младенцем как пластичный кусок глины заданной формы – насколько речь тут вообще может идти о какой-либо форме – через его взаимодействие с этим миром. Мы впервые непосредственно соприкасаемся с ним при помощи пальцев, ртов и внутренних органов, и он очень отличается от интегрированной (если использовать в качестве более-менее знакомого примера слово из классической физики) математической системы, включающей в себя соотношения массы, длины и времени. Но в западной философии – в противоположность теологии – младенцы не играли никакой роли. Ранние эмпирики предполагали существование пути от простых ощущений к научным представлениям, – и как чудесно то, что все мы действительно начинаем приблизительно так, как утверждает Воллхайм, а затем, через лет двенадцать, достигаем способности понимать теоретическую механику. Однако, в отличие от усвоения родного языка, обучение классической физике чудесным отнюдь не кажется. Ребенок одной моей студентки родился глухим, и она, будучи философом, вместе со своим мужем мучительно билась над тем, чтобы ее ребенок, лишенный какого-либо доступа к звуковой информации, усвоил язык. Но хорошо известно, что даже на основе минимального притока информации дети способны воспринять и верно усвоить грамматику; действительно, когда я встретился с ее дочерью, которой к тому времени было уже два с половиной года, она смогла спросить меня, хочу ли я попробовать китайский суп с клецками. Авторы, подобные Локку, начинали не с такой глубокой инстинктивности, о которой говорит Воллхайм, – скорее с так называемых пяти чувств. Но, по моему общему впечатлению, даже если содержание неонатального опыта, представляющее собой бульон из запахов, боли, тепла, противодействий и отдач, по своим физиологическим характеристикам и совпадает с описанием Воллхайма, всё же, возможно, существует врожденная способность к структурированию, которая позволяет нам очень быстро придавать опыту некую стандартную форму, а не просто в нем погрязать. Упоминаю же я инстинктивную феноменологию Воллхайма потому, что в его рассуждениях действительно ценным представляется то, что основания наших знаний о внешнем мире предполагают вступление в него через посредство такого тела, какое изображено на полотне Мантеньи и подразумевается де Кунингом.
Как-то раз на факультете когнитивных исследований, когда я говорил об идеях Воллхайма, мне показали поразительный видеоролик. Мужчина, держа на руках младенца десяти минут от роду, открывал и закрывал рот, и младенец, подражая ему, делал то же самое. Мужчина высовывал язык – и младенец повторял его действие. Подражание было настолько точным и естественным, что казалось, будто ребенок и взрослый играют в одну из языковых игр Витгенштейна, только без слов, – как будто, открывая рот, мужчина давал младенцу команду делать то же самое. Если реконструировать логическую структуру, которая связывает людей и их рты, то получится, что новорожденный приходит в этот мир оснащенный впечатляющими мыслительными ресурсами, а также своего рода языком мысли, который позволяет ему, среди прочего, сделать вывод, что он должен показывать язык в тот момент, когда это делают другие.
Этот ролик настолько сильно расходится со словами Воллхайма, что нам следует заключить: философ использует слово «знание» в том же смысле, какой подразумевается в Библии, – например, когда в ней говорится об Адаме, познавшем Еву. Его интерпретацию живописи де Кунинга можно назвать хорошей и даже гениальной, но с психологической точки зрения ее смысл ограничен тем значением, какое имеет страстное познание двумя любовниками тел друг друга или познание младенца, ощупывающего грудь матери. В чем состоит угроза, о которой говорит Воллхайм? Если вчитаться в его работы, то станет ясно, что он заведомо применяет ко всему психоаналитическую трактовку (которая действительно много для него значит), в то время как в описанном ролике мы видим, что младенец десяти минут от роду учится быть таким же человеком, как и все мы, посредством подражания: он усваивает язык жестов.
В отличие от западного искусства и христианской теологии, в европейской философии для младенцев не нашлось места. Философы XVII и XVIII веков писали о человеческом понимании, человеческой природе и человеческом знании, но они писали об этих вещах с точки зрения чистого разума, рассматривая их как наши состояния по умолчанию. Гений христианства заключается в том, что, насколько бы малопонятными ни казались его основные таинства, оно нашло путь – в первую очередь через посредство искусства – для того, чтобы перевести их в категории, доступные пониманию каждого, поскольку они отсылают к хорошо знакомым ситуациям: ведь все когда-то были младенцами и выросли под чьим-то попечением. Я считаю, что древнейший образ в западном искусстве – это изображение матери и ребенка. Где-то в «Улиссе» говорится о «слове, которое знает каждый человек», и многие исследователи творчества Джойса недоумевали, что же он имел в виду. Может быть, гадали ученые, это слово – «любовь»? Мое мнение таково, что слово это должно присутствовать неизменным во всех языках и что речь идет, судя по всему, о слове «ма-ма», состоящем из двух повторяющихся слогов, которые воссоздают сосательное движение губ новорожденного младенца. Со времен Вазари западное искусство трактовалось в триумфальном духе, как покорение внешнего, измеряемого в категориях пространства, формы и цвета; высшей точкой этого покорения стало открытие законов перспективы и ракурсного сокращения. Но всё это относится к изображению фигур в пейзаже. По-настоящему же поразительная вещь открывается скорее в выражении человеческого существования через внутренние состояния: страдание на кресте, голод младенца Иисуса, а прежде всего – любовь, проявление которой мы видим в том, как Мадонна держит Младенца. Это стало открытием Фра Анджелико, сопоставившего Мадонну с Младенцем с египетскими Исидой и Осирисом, между которыми нет и намека на любовь. Фра Анджелико показывает своих персонажей таким образом, что их изображение можно понять, только приняв во внимание их внутреннее состояние. Внутренние состояния обладают общечеловеческой значимостью, но они не показываются, по причинам глубокой культурной обусловленности, в других художественных традициях: например, их абсолютно точно нельзя обнаружить в античном классическом искусстве, каким бы прекрасным оно ни было, как нельзя и в африканском, каким бы оно ни было мощным. Что поразительно в западном искусстве, так это то, насколько оно представляется нам близким и понятным. Рождество – исключительно домашняя сцена, с младенцем, матерью и отцом (несколько потерявшим связь с реальностью), друзьями и членами семьи, которые восхищаются новорожденным, а некоторые из них приносят подарки. Все мы более или менее представляем, что чувствуют собравшиеся, и в общих чертах понимаем, чем все заняты и почему. А представляем и понимаем мы это потому, что хорошо знакомы с тем, как тело выражает эти вполне тривиальные чувства.
Еще более познавательно сопоставление великого философского труда Рене Декарта – его «Размышлений о первой философии», опубликованных в Париже в 1641 году, – с полотнами того времени, например с изображениями Рождества или со «Святым семейством» (Институт искусств, Детройт) – довольно простой картиной, написанной земляком Декарта Никола Пуссеном в том же 1641 году. На ней изображена Мадонна, играющая с Младенцем и одновременно подогревающая что-то в миске, из которой, судя по всему, собирается его кормить: Иисус в процессе отлучения от груди. Святой Иосиф показан откинувшимся на подоконник: возможно, он задремал после беспокойной ночи, проведенной без сна из-за криков ребенка. Мы хорошо понимаем, что думают и чувствуют все изображенные персонажи. И, конечно, ничто в картине не указывает на святость Святого семейства: это вопрос веры. Даже для того, чтобы только начать отдаленно понимать, что значит для них быть святыми, необходимо усвоить достаточно сложный метафизический нарратив, начинающийся с неповиновения, греха, познания добра и зла. Но христианские художники стремились к совершенству в передаче человечности членов Святого семейства. Есть разница между знанием о том, что Мадонна и Младенец счастливы и любят друг друга, и тем, что Мадонна безгрешна и была избрана как сосуд Святого Духа. Оба вывода предполагают рассуждения, но первый из них мы делаем каждый день, не задумываясь. Можно сказать, что мы впитываем это с молоком матери. Мы спонтанно отвечаем любовью на взгляд, полный любви. На лице матери, кормящей и нянчащей своего ребенка, отражается столько чувств, что любовь пронизывает их взаимодействие с первых секунд. Я думаю, что именно это Воллхайм и хочет донести до своих читателей. Однажды я прочитал об очень опасном эксперименте: оказывается, если на человека, который кормит ребенка, надета маска, то ребенок отказывается от еды. Подозреваю, что даже если маска – улыбающаяся, результат остается таким же. Как много зависит от того, что младенец непосредственно воспринимает выражение лица матери, на котором запечатлены ее чувства! Сколько лицевых мышц задействовано, чтобы выразить заботу и любовь! Кажется, что ошибиться здесь очень сложно, – хотя мы и можем, с логической точки зрения, ошибаться.