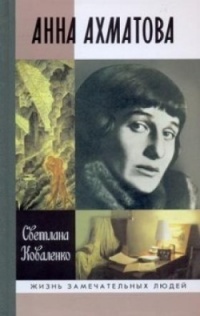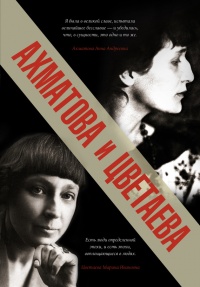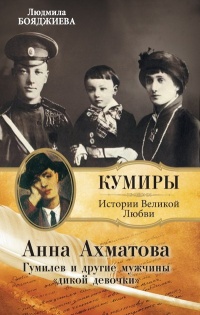Книга Анна Ахматова. Листки из дневника. Проза. Письма - Анна Ахматова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал. Известно, что беседы с Шилейко вдохновили его на стихотворение «Египтянин».
Гумилев рано и хорошо оценил Мандельштама. Они познакомились в Париже. (См.: конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, что Н. Ст. был напудрен и в цилиндре).
Символисты никогда его не приняли.
Приезжал О. Э. и в Царское. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его конфиденткой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его на синем фоне с закинутой головой (1914, на Алексеевской улице). Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался – еще не умел писать любовные стихи. Второй была Цветаева, к которой были обращены крымские и московские стихи; третьей – Саломея Андроникова (Андреева, теперь Гальперн, которую Мандельштам обессмертил в книге «Tristia» – «Когда, Соломинка, не спишь в огромной спальне…». Там был стих: «Что знает женщина одна о смертном часе…». Сравните мое – «Не смертного ль часа жду». Я помню эту великолепную спальню Саломеи на Васильевском острове).
В Варшаву О. Э. действительно ездил, и его там поразило гетто (это помнит и М. А. 3.), но о попытке самоубийства его, о которой сообщает Георгий Иванов, даже Надя не слыхивала, как и о дочке Липочке, которую она якобы родила.
В начале революции (1920), в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблен в актрису Александрийского театра Ольгу Арбенину, ставшую женой Ю. Юркуна, и писал ей стихи («За то, что я руки твои…» и т. д.). Рукописи якобы пропали во время блокады, однако я недавно видела их у X.
Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и к ее тени – «В холодной стокгольмской постели…» Ей же: «Хочешь, валенки сниму».
Всех этих дореволюционных дам (боюсь, что, между прочим, и меня) он через много лет назвал «нежными европеянками»:
В 1933–34 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка» (заглавие мое), на мой взгляд, лучшее любовное стихотворение 20 века («Мастерица виноватых взоров…»). Мария Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк М. С. знает на память.
Надеюсь, можно не напоминать, что этот донжуанский список не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок.
Дама, которая «через плечо поглядела», – это так называемая Бяка (Вера Артуровна), тогда подруга жизни С. Ю. Судейкина, а ныне супруга Игоря Стравинского.
В Воронеже Осип дружил с Наташей Штемпель.
Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана.
т. е. пародию на стихи Радловой – он сочинил из веселого зловредства, а не par dépit[65] и с притворным ужасом где-то в гостях шепнул мне: «Архистратиг дошел!», т. е. Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении.
Десятые годы – время очень важное в творческом пути Мандельштама, и об этом еще будут много думать и писать. (Виллон, Чаадаев, католичество…) О его контакте с группой «Гилея» – см. воспоминания Зенкевича.
Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 г., кроме изумительных стихов к О. Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени – о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком.
Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта» еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Но стихи люди любили (главным образом, молодежь), почти так же, как сейчас, т. е. в 1964 г.
В Царском, тогда – «Детское имени товарища Урицкого», почти у всех были козы; их почему-то всех звали Тамарами.
[Царское в 20-х годах представляло собою нечто невообразимое. Все заборы были сожжены. Над открытыми люками водопровода стояли ржавые кровати из лазаретов Первой войны, улицы заросли травой, гуляли и орали петухи всех цветов… На воротах недавно великолепного дома гр. Стенбок-Фермора красовалась огромная вывеска: Случной пункт. Но на Широкой так же терпко пахли по осеням дубы – свидетели моего детства, и вороны на соборных крестах кричали то же, что я слушала, идя по соборному скверу в гимназию, и статуи в парках глядели, как в 10-х годах. В оборванных и страшных фигурах я иногда узнавала царскоселов. Гостиный двор был закрыт.
мне всю жизнь кажется, что Пушкин это про Царское сказал. И еще потрясающее:
самая дерзкая строчка из когда-нибудь прочитанных или услышанных мной (однако неплохо и «священный сумрак»)].
Что же касается стихотворения «Вполоборота», история его такова. В январе 1914 г. Пронин устроил большой вечер «Бродячей собаки» не в подвале у себя, а в каком-то большом зале на Конюшенной. Обычные посетители терялись там среди множества «чужих» (т. е. чуждых всякому искусству) людей. Было жарко, людно, шумно и довольно бестолково. Нам это наконец надоело, и мы (человек 20–30) пошли в «Собаку» на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: «Как вы стояли, как вы читали» и еще что-то про шаль (см. о Мандельштаме в воспоминаниях В. С. Срезневской). Таким же наброском с натуры было четверостишие «Черты лица искажены». Я была с Мандельштамом на Царскосельском вокзале (10-е годы). Он смотрел, как я говорю по телефону, через стекло кабины. Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строки.