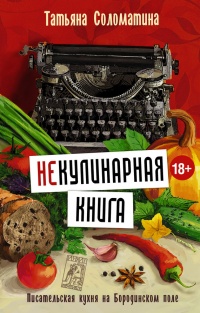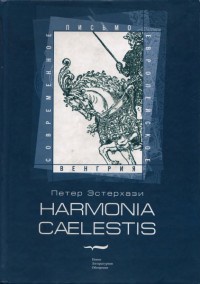Книга Гуляш из турула - Кшиштоф Варга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поздним вечером на улице Ваци — некогда олицетворявшей для поляков мечту о ярком, красочном мире, бывшей социалистическим суррогатом западного мира потребления, а нынче самой обыкновенной улице, на которой облапошивают туристов, — прохаживаются бляди-непрофессионалки и вербовщики из ночных клубов. Магазины с красиво упакованной всякой венгерской всячиной и пункты обмена валюты (где курс всегда грабительски выше, чем в других местах) уже закрыты, и Ваци полностью теряет свой фальшивый блеск, притворную позу большой улицы большого города. Превращается в провинциальную улочку, выглядит каким-то приграничным городком, где поздним вечером открыты только McDonald’s и клуб с танцами на столе. Шлюхи застенчивы и скромно одеты. Не носят ни мехов, ни туфель на шпильках; без боевой раскраски они похожи на продавщиц, которые по дороге домой решили побродить по Ваци. Ищут иностранцев, часто для начала спрашивают прохожего, говорит ли он по-английски, и, услышав положительный ответ, задают вопрос-тест, например как пройти на улицу Реги пошта, которую знает каждый будапештец и не знает ни один чужеземец. Они напоминают героинь фильма Иштвана Сабо «Милая Эмма, дорогая Бебе» — молодых учительниц русского языка, которые после 1990 года внезапно потеряли работу. Эмма пробовала было преподавать английский, но не знала его даже на элементарном уровне. Бебе хотела пойти по более легкому пути — начала просиживать в кафе «Анна» на улице Ваци и ловить иностранцев. Ни у той, ни у другой ничего не выйдет: Эмма очутится в подземном переходе, где будет продавать газету «Mai Nap», жизнь Бебе оборвется во дворике общежития, из окна которого она выбросится, решив покончить с собой. «Mai Nap» означает «сегодняшний день», это название явно символично — сегодняшний день раннекапиталистической Венгрии в фильме Сабо равнозначен несправедливому наказанию людей, которых по случайности приняли за привилегированных адептов уходящей системы, коли они учили ненавистному языку советских оккупантов.
Нынешние Эмма и Бебе не выглядят отчаявшимися. Они дилетантки, но напряжения в них не чувствуется. Заводят разговор так, будто вовсе и не нуждаются в деньгах, а развратом занимаются из милосердия. Ведь столько мужчин нуждается в утешении долгим одиноким осенним вечером. Бляди с улицы Ваци еще не устали от жизни, их занятие еще не набило им оскомину, их распутство немного застенчивое и поэтому симпатичное.
По субботам на лужайке перед купальней Лукач устраивается ócskapiac — толкучка, на которой продается барахло, собранное на помойках, старая мебель и домашняя утварь, которую выставляют у мусорных баков, ненужные ошметки чужой жизни.
Тут можно найти какой угодно хлам: старые расклеившиеся ботинки, тряпки, выдаваемые за одежду, уродливые пластмассовые игрушки, тупые ножи — все грязное, лишнее, покрытое пылью, неумело заискивающее перед потенциальными новыми хозяевами. Можно дешево купить чье-то сильно вытертое, поношенное счастье. На разложенном на траве одеяле, служащем прилавком, пожилая женщина за двести форинтов продает большую оправленную в раму фотографию улыбающейся пары: она — блондинка с локонами, лет тридцати, он — лет на десять ее старше, усатый, с порядочными залысинами. Она — ядреная, он — жилистый, оба здоровые, спортивного вида. Она сидит у него на коленях, оба искренне улыбаются, за их спинами — какие-то кусты, дачный или кемпинговый фонарь. Бледные цвета свидетельствуют об использовании фотопленки ORWO, покрой летней одежды — о том, что это конец семидесятых, а может быть, и восьмидесятые. Женщина, продающая фотографию, скорее всего, нашла ее где-нибудь на свалке старья рядом с помойкой. Кто с облегчением избавился от этого доказательства былой дружбы, а может, любви? Усатый? Блондинка? Кто-то третий? Их ребенок? Или их знакомые? Мешало дома, не хватало из-за него места для нового зеркала? Снимок очень большой, не такой, как те, что хранятся в конфетных коробках. Ему требуется приличный кусок стены. Почему пожилая женщина решила, что это вещь, которую вообще кто-то захочет купить? Она не имеет никакой практической ценности, на фотографии увековечены анонимные люди, а не какие-нибудь знакомые по телепередачам или цветным журналам, не актеры и не спортсмены — просто какие-то Жужа и Янош из блочных жилищ Обуды или каменных домов на соседней Маргит кёрут.
Фотография стоит дешево, не дороже кружки пива в скверной пивной, но кто на нее позарится?
«Lomtalanítás» значит «выставка», место коллективного выбрасывания старой рухляди. У каждого микрорайона для этого праздника освобождения от старья есть свой собственный день, поэтому весь город не превращается внезапно в одну великую свалку. В назначенный срок жители микрорайона выставляют на тротуаре перед своими домами старые шкафы, кровати, матрасы с торчащими пружинами, проеденные молью пальто, вышедшие из строя стиральные машины и холодильники. В кучах дерева и металла можно найти старые альбомы, засаленные романы, юношеские дневники, школьные фотографии людей, давно умерших… Может, и кого-то из тех двоих на фотографии за двести форинтов тоже уже нет в живых?
Когда наступает день Lomtalanítás, можно безнаказанно выкидывать на улицу все лишнее, все, что мешает жить, что сломано и непрактично, а кроме того, может нам напомнить о чем-то в прошлом, от чего хочется избавиться, как от назойливого поклонника, надоедающего своими письмами и звонками. В период Lomtalanítás тротуары загромождают раздолбанные мебельные стенки шестидесятых, пожелтевшие холодильники «Лехел», стиральные машины «Hajdu» с вырванной дверцей-иллюминатором, старые советские пылесосы «Ракета», большие пластмассовые телефоны с круглым диском, причудливые абажуры старых ламп. В дни Lomtalanítás Будапешт становится еще более меланхолическим, обнажая свои внутренности, вываливая наружу потроха памяти.
Больше всего в Будапеште я люблю его предместья. Все, что находится за пределами упрощенных планов города «Budapest City Spy Map» для глобтроттеров со всего мира и схем городского центра, которые вручают постояльцам отелей. Меня интересуют такие места, где город теряет свою столичную гордыню, свою высокомерную императорско-королевскую брезгливость, этот запылившийся лоск тысячелетия, которое оборвалось более ста лет назад[68], — иной раз кажется, что празднества по этому случаю были последним по-настоящему значительным событием в городе. Я люблю прогулки в районах старых одноэтажных зданий, домов с маленькими садиками, обитатели которых не покидают своих насиженных мест и не ходят в центр, ни на улицу Ваци, ни даже на Надькёрут[69]. Кварталы, где ездят старые синие «икарусы» серии 260 и 280, уже полностью исчезли из центра. А я люблю иногда, хоть и редко, на углу Надькёрут и Непсинхаз сесть в небольшой «икарус 260» и ехать по маршруту девяносто девять до самого Кишпешта через Векерле телеп или еще дальше, до Пест Эржебет; или сесть в автобус девяносто пятого маршрута у стадиона имени Ференца Пушкаша и ехать до Пест Сент Лоринц. А еще — поехать восьмидесятым троллейбусом от вокзала Келети до XIV квартала, туда, где он сходится с XVI кварталом. Суть в том, чтобы ехать туда, где нет ничего интересного, никаких мест, освященных моей юностью, никаких легендарных базаров, где нет ничего, кроме жизни, которая просто течет своим чередом на узких улицах, в небольших одноэтажных домишках. И именно там я в нее погружаюсь, только там по-настоящему остро ощущаю убыстряющийся ход своей жизни, может быть, как раз потому, что там ничего не происходит и ничего не меняется.