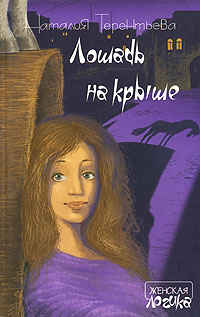Книга Я уже не боюсь - Егор Зарубов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ночью мне снятся Юля и дождь. Она стоит в потоках дождя, протягивая мне руки; за ней – темнота. Я тянусь к ее пальцам, но не могу достать, вижу страх на ее лице, изрезанном черными штрихами мокрых волос, а струи ливня прямые, серые, но они становятся ярче, становятся белыми, превращаются в линии, меняют направление, образуя ужасные фигуры и узоры, сливаясь с линиями Юлиных волос, и она кричит, кричит, пропадая за этой огромной чудовищной решеткой, растворяясь в темноте там, сзади… Я слышу ее крик и тоже кричу, кричу, а линии ползут ко мне, как склизкие бледные змеи, и…
Я просыпаюсь в темноте, с криком, застрявшим в пересохшем горле.
На следующее утро Юлю забрала «скорая». Мне об этом рассказала ее сестра, когда я позвонил ближе к обеду. Операция. Аневризма аорты. Дежурная больница на Троещине – другой конец города.
Я еду. Честно говоря, совершенно не помню дорогу. Будто ее и не было. Был у телефона – и вот уже рядом с ней.
Я стою над ней. Рядом ее сестра рыдает. Коридор, зеленоватый кафель, ледяной свет, лампы потрескивают. Юля под серой простыней, только лицо осталось неприкрытым. Кажется, будто она спит. Кажется, стоит коснуться – и она проснется. Я касаюсь.
Она не просыпается.
В кино часто сцены сменяют друг друга, опуская ненужные промежутки. Вот герой младенец, а вот – уже взрослый, с надписью «двадцать лет спустя» внизу экрана. Я мало что помню из того утра, кроме острого, болезненного, рвущего на куски желания оказаться в следующей сцене, пропустить, проскочить, перемотать… И хорошо, что я могу сделать что-то подобное в своем рассказе. Буквально на крохотный отрезок пропитанного запредельной болью времени. Хорошо, что могу.
В жизни ведь так не получилось.
9
Люди много чего понаписывали и понаснимали о загробной жизни. Одни говорят, там ад и рай, другие спорят о реинкарнации и тоннелях со светом в конце, третьи вообще утверждают, что ничего там нет, кроме темноты… Мне кажется, жизнь после смерти очень похожа на обычную. Все то же самое, только вокруг нет тех, кто тебе по-настоящему нужен.
Я стою на остановке. Не совсем понимаю, зачем и почему, но это теперь мое обычное состояние. Меня будто разорвало чудовищным давлением, как подлодку, затонувшую в Марианской впадине, и теперь обломки бросает куда попало течением. Рано или поздно я совершу какую-нибудь ошибку – сяду не в тот троллейбус, войду не в ту дверь, забуду одеться, проснуться, поесть… Случится сбой, отлаженный механизм разболтается, и вся эта инерция закончится.
Кстати, о еде и сне. Говорят, влюбленные не могут ни есть, ни спать. В этом что-то есть – когда в седьмом классе я до одури влюбился в Олю Бугас, то действительно ночами разглядывал потолок, по которому иногда ползали отсветы фар автомобилей во дворе, а утром едва ковырял еду вилкой, уставившись в пустоту. Но для этих симптомов нужно быть действительно сильно влюбленным. Лучше всего – безответно.
Смерть тех, кого любишь, очень похожа на безответную любовь. Любовь даже без призрачной надежды на взаимность. Поэтому да, я мало ем и сплю.
На другой стороне проспекта мама Аллы, как обычно, курит сигарету. Но вдруг, вместо того чтобы традиционно прикурить следующую от первой, бросает окурок в траву и заходит в парикмахерскую. Я вспоминаю, как представлял себя богом, повелевающим миром и людьми. Какая чушь. Спасибо маме Аллы за демонстрацию, но я и так уже понял, где мое место и какова моя роль.
В троллейбусе старичок-кондуктор, напоминающий ссохшееся яблоко в зеленой форменной жилетке, подходит ко мне и говорит:
– Оплачиваем проезд. Проездные предъявляем.
У него сухой, тихий и сиплый голос; слова тонут в скрипах и стонах старой «шкоды».
Я отворачиваюсь от окна, смотрю на старичка и говорю ему:
– Тысяча девятьсот семьдесят девятый. Ввод советских войск в Афганистан.
Я не придуриваюсь и не выделываюсь. Я действительно не понял ни слова из того, что он сказал. А даты я теперь повторяю почти все время. Иногда проговариваю одно и то же по нескольку раз, будто пытаюсь убедить себя, что какое-то событие все же действительно имело место, что мир – не идиотский мираж, в котором в семнадцать лет переживаешь двойной удар смерти и дальше дышишь, ходишь, спишь, ешь, куришь, живешь так, будто ничего и не случилось.
Троллейбус ползет мимо универмага. Мелькает призрак воспоминания: я что-то когда-то хотел здесь купить. В упор не могу вспомнить, что именно. Да и без разницы. Это ведь было до нашей эры.
Выдубичи гнетут сильнее обычного. Глядя на гудящие петли развязок, вспоминаю про замкнутые лестницы Эшера и представляю, как сам сижу там в одной из машин, вечно, днем и ночью, несущейся из ниоткуда в никуда…
Снова Тарас говорит разгрузить вагон с шифером. И снова Дрэд тащится за помощниками-собутыльниками. Солнце все так же нещадно выжигает пыльные серые пустыри и бетонные коробки, все вокруг лязгает, скрежещет и грохочет. На мгновение меня простреливает разряд абсурдной, отчаянной, истеричной надежды: мне дали второй шанс и забросили в прошлое, в тот день, когда…
Глупость, конечно.
Боцман и Серый Человек уже тащатся к вагону с кусачками в руках. Мы с Дрэдом идем следом. Забираемся на вагон, Боцман достает неизменные ингредиенты застолья – водку, «Тархун», хлеб и сырки. Щелкают зажигалки, вспыхивают сигареты и самокрутка Боцмана. Старик открывает рот, чтобы сказать свое заклинание:
– Точно не будешь, Шко…
– Наливай, – отвечаю я.
Дрэд удивленно смотрит на меня, Старик на миг застывает с открытым ртом. Даже Серый Человек изображает что-то вроде изумления на покрытом цементной пылью лице.
– Стакана четвертого нет, – говорит Боцман и протягивает свой: – На. Из моего выпьешь.
Я подношу ко рту прозрачную жидкость. Пахнет кислятиной и дешевкой.
– За тех, кто не с нами, – повторяю я излюбленный тост Боцмана.
– Пили уже, – говорит Дрэд.
Я смотрю на него и говорю:
– Выпьем еще раз.
Водка падает в желудок ядерным взрывом. Запиваю ее «Тархуном» и закуриваю. Жара обволакивает со всех сторон, как фольга, в которую мама заворачивает рыбу, прежде чем засунуть ее в духовку. Душно. Стаканы снова наполняются. Я с утра ничего не ел. А может, и вчера тоже.
Когда Дрэд просит меня сходить в офис и взять у Никитичны сигареты, я уже слабовато соображаю и наслаждаюсь теплой ватой, в которую превратились мозги. Мысли будто разорвало в клочья артобстрелом, их осколки рикошетят внутри черепа, окутанного пьяной мутью. Спускаюсь по ступенькам, иду к серой двухэтажке офиса. Идти тяжело, будто водолазу по илистому дну. Перехожу рельсы козлового крана, едва не угодив под его колеса. Вхожу внутрь, в крохотную комнатушку офиса. Тут еще хуже – кондиционера нет, духота такая плотная, что ее можно резать ножом, как студень. В этом студне сидит и стучит по клавишам Таня. Округлившийся живот не позволяет сесть близко к столу, и она вынуждена вытянуть руки к клавиатуре, как ребенок, плывущий с пенопластовой доской в бассейне.