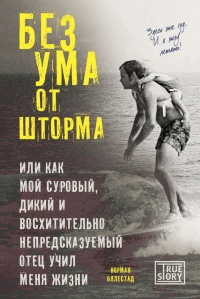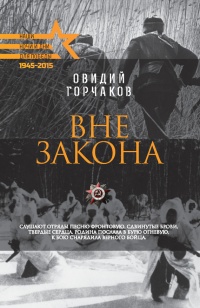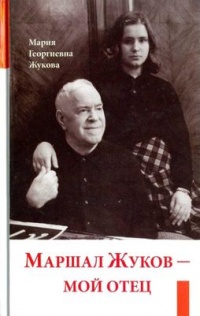Книга Предрассветная лихорадка - Петер Гардош
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Шандор Райх, папочка, продавец чемоданов, на рассвете каждого понедельника тащился вдоль улицы Хернад с двумя огромными корабельными кофрами фирмы “Вулкан фибер”, в которых, будто в матрешке, скрывались, один в другом, еще десятки чемоданов и саквояжей поменьше.
Эта картина так ясно встала перед глазами Лили, что она, и не закрывая их, видела даже тень папочки, отбрасываемую весенним солнцем на стены домов.
– …Всю неделю папочка пропадает в провинции. Но в пятницу, к выходным, возвращается к нам… Мы живем рядом с Келети, специально снимаем квартиру именно у вокзала. В понедельник утром папочка снова отправится в путь со своей коллекцией. Пройдет вдоль по улице Хернад до Келети. А в пятницу снова вернется домой с чемоданами. А мы уж его заждались…
Слова без особых трудностей перенесли ее в прошлое. Они сидят за празднично накрытым столом в квартире на улице Хернад: папочка, мамочка и их восьмилетняя дочка Лили. А во главе стола восседает еще один человек, небритый мужчина в дряхлом пальто, застегнутом так, чтобы не было видно его грязной рубашки и драных штанов. Папочка хотел было стащить с него это пальто, но махнул рукой. Незнакомец ногтем с черным ободком грязи смущенно колупает солонку.
– …В пятницу вечером у нас всегда праздничный ужин. И папочка всегда приглашает кого-то из бедных евреев. Так он встречает субботу. А бедняка он обычно находит где-нибудь у вокзала…
Свен Бьёркман, казалось, все понимал. На глаза его навернулись слезы. Он сидел неподвижно, слегка приспустившись на стуле. По лицу жены блуждала мечтательная улыбка, и даже двое детишек, замирая с поднятой ложкой, время от времени вскидывали на Лили распахнутые глаза.
– …Таким образом каждую пятницу наша семья увеличивается до четырех человек…
Лили не смела взглянуть на грудь, где висел серебряный крестик…
А вечером, пока они долго ехали в Экшё, фру Бьёркман рассказывала Лили о сложных премудростях шведской системы усыновления и опеки. Ее ничуть не смущало, что девушка в лучшем случае могла лишь догадываться о теме ее возбужденного монолога. Как бы то ни было, жена Бьёркмана почувствовала облегчение, рассказав наконец о плане, который они со Свеном вынашивали уже не одну неделю.
Лили уж давно исчезла за двойными дверями госпиталя, а Бьёркманы все махали ей, прислонившись к своей машине.
…Миклошка, не забудь о своем обещании найти друга для моей лучшей подруги Шары! Шара старше меня, ей недавно исполнилось двадцать два…
* * *
Измученный никотиновым голодом, мой отец бегом пробежал расстояние до привратницкой. Он вошел без стука. Фрида и Гарри отпрянули друг от друга.
– Мне только сигарет… – пробормотал отец.
Фрида вырвалась из объятий Гарри и, даже не застегнув блузку, подлетела к шкафу, откуда вытащила деревянный ящик. В нем навалом, без упаковки, лежали сигареты нескольких марок.
– Сколько тебе? – сверкая вывалившимися грудями, ухмыльнулась Фрида.
Отец страшно смутился. И без слов показал: четыре. Фрида послюнявила пальцы и выхватила из ящика четыре сигареты. Мой отец достал из кармана мелочь, и они обменялись.
Гарри обнял девушку сзади и поцеловал ее в шею:
– Дорогая, дай ему бесплатно. Это мой лучший друг. Он помог мне вернуть потенцию.
Фрида игриво взглянула на моего отца, пожала плечами и отдала ему мелочь.
Что касается твоей просьбы, то просто беда! Нас, венгров, всего здесь шестнадцать, но ни один из них не подходит для Шары. Поначалу я хотел было взять с собой Гарри, но теперь уже не хочу…
* * *
После последнего триумфального выступления музыкальные вечера в Экшё участились. Свенссон позволил Шаре и Лили манкировать половиной тихого часа. В два часа пополудни девушки запирались в актовом зале и репетировали. Главный врач даже раздобыл им ноты.
В одной из тетрадей они обнаружили целую коллекцию произведений Леонкавалло. И спустя неделю представили публике “Маттинату”, самый известный из его шлягеров. Сопрано Шары в этой возвышенной романтической песне взмывало под небеса. От избытка чувств она картинно раскидывала руки. Лили тоже переняла этот манерный утрированный стиль и обрушивалась на клавиши, будто ястреб на свою жертву. Вот когда они пожалели, что у них не было концертных платьев. По правде сказать, у них не было вообще никакой подходящей одежды, и по этой причине обе вышли на сцену в больничных халатах, едва прикрывавших ночные сорочки.
Юдит Гольд сидела среди солдат – в том ряду, где, кроме нее, не было ни одной женщины. Она гордо выпрямилась: быть венгеркой в этот момент было приятно.
L’Aurora, di bianco vestita,
Giá l’uscio dischiude al gran sol[4].
Не иначе, что-то особенное витало тогда в атмосфере, ибо в тот же вечер в Авесте, в трехстах семидесяти семи километрах к северу, тоже царило безудержное веселье.
Не догадываясь о разительном совпадении, парни по предложению Григера и с его же блистательным сопровождением на гитаре стали петь ту же самую серенаду Леонкавалло. Как будто небесный хормейстер, взмахнув палочкой, через ангелов известил их о том, что им следует петь. Во всяком случае весь барак – немного фальшивя, но дружно, раскрепощенно и, кстати, по-итальянски – грянул “Маттинату”.
В Экшё солдаты все больше пьянели от музыки. Зал утопал в блаженных улыбках. Шара вскидывала руки к потолку, Лили, казалось, вот-вот вознесется над стулом.
А парни в бараке в порыве энтузиазма повскакивали на столы и кровати. Гарри подбежал к Григеру и тоже стал дирижировать.
Ove non sei la luce manca,
Ove tu sei nasce l’amor![5]
Мой отец стоял впереди других, его захлестнула горячая волна счастья, будущее казалось ему прекрасным. В конце концов, “Маттината” – это гимн любви, и отец справедливо считал, что этот гимн его товарищи исполняли именно в его честь.
* * *
А еще посылаю пряжу на свитер вместе с размерами. Надеюсь, ты не обидишься?
Отец, еще когда разговаривал с Лили по телефону, намекнул ей, что благодаря богатому кубинскому дядюшке он может позволить себе немного больше, чем другие обитатели лагеря. Старший брат его матери, дядя Хенрик, вписал себя в семейные анналы тем, что в 1932 году, прихватив фамильные драгоценности, отбыл на Кубу. И уже из Гаваны он, не испытывая угрызений совести, послал родственникам в Дебрецен фотооткрытку в сопровождении восторженных слов о своей новой чудесной родине.
В детстве мой отец часто разглядывал черно-белую фотографию, запечатлевшую многолюдный гаванский порт в непогожий дождливый день. Лицо дяди Хенрика ему не запомнилось – на нем, кажется, были щегольские усы и сияющие под пенсне глаза, но за это он не ручался.