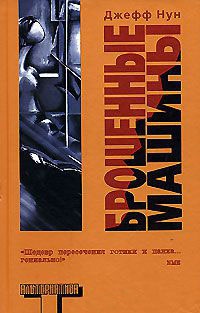Книга Королеву играет свита - Светлана Успенская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Тарковский, помнишь его? Сейчас собирается снимать «Андрея Рублева».
Говорят, шикарная вещь. Сценарий в «Искусстве кино» печатали. И ты знаешь, там есть роль Маруси, которая ходит по Руси и пишет иконы…
— И что?
— Эта роль прямо для тебя! Советую попробовать… А Тарабрин-то…
Помнишь этого скуластого? Уже вышел в производство, со своими сценариями. Сам и снимает. Женился на какой-то библиотекарше…
— Что он? Все пописывает свои дурацкие рассказики?
— Наверное.
— А Валя Лапин? А Ляля Козлова?.. У них был такой сумасшедший роман, кто бы мог подумать…
Они проболтали всю ночь напролет. Нине казалось, будто Она вырвалась из безвоздушного пространства, в котором обитала долгих два года, и вновь вернулась в родную стихию.
А дальше потекла знакомая, чертовски интересная жизнь. Кутькова, как и раньше, преданно служила своей подруге, готовила обед и следила за ней, как старшая сестра. А Нина купалась в веселой студенческой атмосфере. Она вновь превратилась из замужней женщины, матери двухлетнего ребенка, в бесшабашную девчонку с удивленно распахнутыми, серыми, как северное море, глазами. Точно не было этих ужасных двух лет!
При виде на улице хорошенькой девочки, похожей на дочь, сердце ее мучительно сжималось. Нина опускалась на корточки и со слезами на глазах говорила ребенку несколько ласковых слов, от которых у нее самой переворачивалось сердце. «Надо обязательно съездить в Ленинград, — думала она, — обязательно!» А потом вспоминала, что денег у нее нет и не предвидится, даже на билеты, что надо бы послать матери хоть несколько рублей, а потом опять все наваливалось — учеба, встречи с друзьями и суматошная, суетливая жизнь, не оставляющая ни секунды на раздумья… И щемящая волна бесследно отступала.
Зимой приехал Юра. Он казался худым и усталым, утомленное лицо было обметано трехдневной колючей щетиной. На нем было кургузое пальто неприятного коричневого цвета с цигейковым воротником и засаленная кроличья шапка на макушке. Нина смотрела на него и с удивлением думала о том, что этот человек, чужой и ненужный ей, все еще ее муж и даже может иметь на нее какие-то особые права.
— Ну ты как? — спросил Юра, пристально глядя на жену. — Учишься?
— Учусь, — буркнула в ответ Нина. Они помолчали.
— Катя как?
— Она у мамы, — ответила Нина и, словно оправдываясь, быстро заговорила:
— Ты не думай, ей там хорошо, все условия… Бабушка моя, хоть и старенькая, за ней хорошо смотрит.
— А что ж ты сбежала от меня? — упрекнул Юра. — И дочь увезла.
В глубине души Нина все время подсознательно ждала этого упрека. Она нервно дернула плечом и с вызовом заметила:
— Ты меня все равно не отпустил бы.
— Одну — отпустил бы, — возразил Юра. — На все четыре стороны. А ребенок тебе зачем? Я бы ее в деревню к матери отвез, все ж лучше, чем в городе. Молоко свое, фрукты, свежий воздух…
— А что ей там делать, в деревне? Коровам хвосты крутить? — насмешливо спросила Нина. И оборвала саму себя:
— Что сделано, то сделано. Ребенок должен быть возле матери. Отец, в сущности, ни к чему.
— Ну и где же она? — Юра даже огляделся в мнимом удивлении.
— Ну, не в общагу же Катьку тащить! — окрысилась Нина. — У моей мамы ей хорошо. К тому же это временно, пока я учусь.
Юра как-то странно хмыкнул, по-куриному окуная голову в шею, и ничего не ответил. Потом достал из кармана пачку засаленных купюр:
— Я денег привез. Для Кати.
— Ага, давай. — Нина рассеянно протянула руку. — Маме отвезу. Давно уже собиралась съездить.
Она не глядя сунула пачку в карман. Поправила пуховый платок на голове, глядя на примороженную, с праздничными еловыми узорами витрину. Улыбнулась, потому что, несмотря на деревенский теплый платок и пальто, перелицованное из бабушкиного салопа, отражение выглядело чрезвычайно привлекательно: яркие глаза, смеющиеся губы, красные щеки, которым даже двадцатиградусная стужа была не страшна…
Она видела, что Юра исподтишка наблюдает за ней восхищенным взглядом.
«Еще станет ныть, уговаривать начнет», — опасливо подумала она, вспомнив, как неприятны всегда были ей семейные сцены.
— Ну а потом что? — спросил Юра. Изо рта его вырывались спутанные клубочки пара.
— Что потом? — непонимающе усмехнулась Нина. — Ты о чем?
— О нас с тобой… Или у нас с тобой уже все? Она пожала плечами, поправила варежкой платок на голове. Задумчиво произнесла:
— Еще два года впереди. Посмотрим…
— Ты вернешься в Киев?
Нина ответила, как ей казалось, честно:
— Не знаю. — А потом, словно оправдываясь, сбивчиво заговорила:
— Понимаешь, в Москве у меня такие шансы. Зачем их упускать?
— Понятно. Ладно, прощай, — перебил ее Юра и, резко обернувшись, побрел восвояси, засунув руки в карманы пальто, — сгорбленный, скукоженный, жалкий, точно смолоду состарившийся.
У Нины точно огромный камень свалился с души, она вдруг почувствовала себя свободной и почти счастливой.
Нащупав в кармане деньги, она вошла в большую комиссионку на углу. Она давно приметила там заграничное, мало ношенное платье с узкой талией, красным пояском и с круглым отложным воротником. Сейчас она купит его, а со стипендии доложит деньги для Кати.
Платье было как раз впору. Нина прижала к разгоряченным щекам прохладные ладони. Какая она красавица в нем!
Жизнь казалась прекрасной и удивительной.
После того как Катю отвезли к бабушке в Ленинград, она почувствовала себя вновь никому не нужной. Чужая строгая старуха с мрачным морщинистым лицом внезапно получила право кричать на нее, пичкать манной кашей и громко упрекать ее в испорченной жизни дочери.
Однако приходилось терпеть. Катя преданно смотрела на бабушку и очень старалась ей понравиться, потому что та теперь могла полностью распоряжаться ее короткой, никому не нужной жизнью. Гораздо легче было со второй старухой, Старшей бабушкой, более древней и потому более близкой ребенку, чем мать ее матери, которую еще не смирила подступившая к горлу старость. Они гуляли с прабабкой в скверике, тихо сидели на скамейке плечом к плечу, точно два старика, прожившие бок о бок долгую жизнь, полную лишений и потерь.
«Поиграй, Катенька», — предлагала Старшая бабушка. Девочка послушно брала в руки умирающий кленовый лист и с неутоленным любопытством изучала его резные рдяные края. Потом, пронизываемые влажным северным ветром, они тихо брели по улице, и фонари расплывчато желтели сквозь туман, точно куски сливочного масла на сковородке.
В тесной квартире на шестом этаже дома, построенного на исходе XIX века для модных докторов и преуспевающих адвокатов, всегда, даже летом, было темно и прохладно. Окна комнаты, где жили старухи Колыванихи, выходили во двор-колодец, такой узкий и темный, что лучи солнца бесследно терялись в нем, точно в черном ящике. В конце марта после тягучей темной зимы косой солнечный луч впервые робко касался своей теплой ладонью подоконника на кухне. И зимой и летом старухи ходили дома в старых валенках с обрезанными голенищами и кутались в телогрейки без рукавов, кокетливо обшитые по краям цветной тесьмой. Хотя в комнате имелся заколоченный досками камин, оставшийся от буржуев, его никогда не топили, ведь дымоходы еще с блокады были забиты мусором.