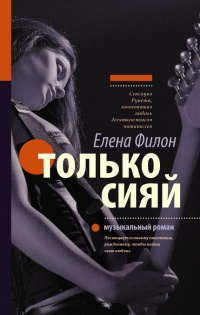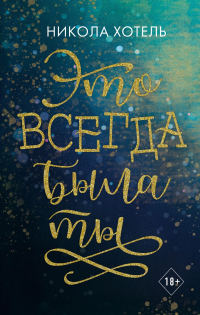Книга Явилось в полночь море - Стив Эриксон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я не могу выйти. Я в тюрьме.
– Попытайся научиться мириться с этим, – ласково объяснила она, и так я прожил в запертой комнате семь месяцев.
В вызванных головной болью галлюцинациях мне впервые явились хронологические линии хаоса на стенах вокруг меня и на потолке надо мной, и начал обретать форму весь Календарь. Будь у меня чем писать, я бы мог начертить все это прямо тогда, там же, и там бы все это и осталось, в какой-то халупе на углу Второй стрит и Второй авеню в Нижнем Истсайде в Нью-Йорке. Я слышал, как по ту сторону двери приходила и уходила Тусовка, раздавались звуки хаоса, постепенно переходившие от радости к отчаянию… Иногда мне казалось, что я слышу смертный скулеж. Максси возвращалась со своей работы рано утром и звала меня через дверь:
– Малыш!
– Что?
– Ты в порядке?
– Я еще здесь, если ты об этом.
– Ты пропустил мое выступление вчера вечером.
– Да, меня не пустили. – (Я слышал уныние в ее голосе.) – Как оно прошло?
– Не знаю, – отвечала она. Я слышал, как из ее голоса уходит коллективная вера Тусовки. – Жаль, что тебя не было, а то ты бы мне сказал.
– Да, похоже, нам не мешало бы разделять такие моменты. В рамках наших все углубляющихся отношений. Иногда, – сказал я, – я чуть ли не слышу тебя отсюда.
– Ты чуть ли не слышишь, как я пою?
– Почти. Я ложусь на пол, кладу голову к отдушине и почти слышу, как твой голос, твое пение выходят через вентиляцию с Нижнего Истсайда, летят с Хьюстон-стрит до Бауэри, попадают на Вторую стрит и через вентиляцию проникают ко мне в комнату.
– И как оно?
– Трудно сказать. Пока оно доходит сюда со скоростью хаоса, ты уже поешь следующий куплет.
– Жаль, что тебе так плохо слышно, – печально сказала Максси. – А то ты сказал бы мне.
– Мне тоже жаль.
– Ведь не понять, хорошо получается или плохо, когда никто, кому можно доверять, тебя не слушает.
– Я понимаю, что ты имеешь в виду, – заверил я ее.
– Мне тебя не хватает.
Я сказал:
– Макс, у меня идея.
– Вот как?
– Завтра я приду на концерт и послушаю тебя, и тогда смогу тебе все сказать, потому что буду прямо там.
Какое-то время за дверью ничего не слышалось. Я не знал, может быть, она говорит что-нибудь, а я просто не слышу из-за двери и из-за шума у себя в голове.
– Но тогда, – наконец ответила Максси, – мне придется выпустить тебя из комнаты.
– Да.
– Нет, – сказала она из-за двери. – Не думаю, что из этого что-то выйдет.
– Я буду прямо там и смогу все услышать.
– Нет, не думаю, – сказала она.
– Это же отличная идея, правда.
– Нет, на самом деле – не очень-то. Не такая уж это и замечательная идея.
– Да что ты, отличная идея.
– Нет, на самом деле, если подумать, если хорошенько подумать, мне кажется, концерт вчера и вправду прошел очень хорошо.
– Ты не можешь знать наверняка.
– Мне кажется, все прошло отлично, если подумать. Я совершенно довольна тем, как все прошло.
– Отсюда, – попытался заметить я, – мне показалось… Мне показалось, все прошло хорошо, но могло бы… Могло бы быть и лучше. Мне показалось… Тебе чуть-чуть не хватило до совершенства. Если бы я слушал прямо там, я бы мог сказать наверняка.
– Нет, – сказала Максси через дверь. – Я не верю, что чуть-чуть не хватило. Мне кажется, все получилось божественно. Я считаю, все получилось обалденно. Знаешь, малыш, я устала. Вот была длинная ночка. Как твоя голова?
– Открой эту долбаную дверь, Макс.
– Я ложусь спать, малыш. Скоро я снова к тебе приду.
– Макс!
– Спокойной ночи.
Я так и не выходил из комнаты, пока в один прекрасный день, когда в ушах у меня шумело не так громко, и головная боль была не такой сильной, как обычно, за дверью не раздался голос еще одной женщины.
– Эй! – услышал я и, встав на колени, подкрался с тюфяка к двери и прижал к ней ухо.
– Эй! – повторила она, и я замешкался, не зная, отвечать или нет, словно, когда освобождение замаячило на горизонте, уже не был уверен, нужно ли мне это. Попытавшись откликнуться, я обнаружил, что снова потерял голос, но в конце концов сумел выдавить из себя хрип.
– Да, – выговорил я, вставая на ноги. – Да! – и стал колотить в дверь.
– Ты в порядке? – спросила девушка за дверью, но когда я попытался ответить, голос у меня снова пропал, и мне оставалось лишь продолжать стучать.
Я отошел от двери, ожидая, не откроется ли она. Но ничего не случилось, и через мгновение, к моей великой ярости, среди звуков у себя в голове я услышал шаги – девушка удалялась. Я со всех сил хлопнул ладонью по двери, вернулся на свой тюфяк на полу и задремал…
Через несколько минут я проснулся, встал, подошел к двери и, повернув ручку, обнаружил, что дверь не заперта. Я вышел и стал озираться в пустой квартире, как человек, вылезший из чрева земного на солнечный свет. Обернувшись к двери в комнату, где я провел последние семь месяцев, я увидел, что Максси написала на ней черным маркером: ЗДЕСЬ ЖИЛЕЦ. Я бросил все – включая мои кассеты, – взял пятьдесят пять баксов из сигарной коробки, где Максси хранила наличность, и ушел.
Не будем слишком долго разбираться, зачем в восемьдесят втором году я вернулся в Париж. Скорей всего, просто так случилось, что я там оказался в это время, – рано или поздно я собирался вернуться туда, и случайно это произошло именно тогда. Меня уволили («за нарушение субординации» и «оказание разлагающего влияния на сотрудников», но в это тоже не стоит вдаваться) из одной исследовательской фирмы, где в мои руки стекались тысячи фактов, свидетельствующих о проявлениях хаоса… Сбежав от работы и от романа с недавно разведенной женщиной, которая все еще чувствовала себя виноватой перед бывшим мужем, я отправился в Париж. И вот я там. Какое-то время пожил с анархистами на рю Вожирар, неподалеку от Эйфелевой башни, потом переехал на рю Жакоб, совсем рядом с бульваром Сен-Жермен, в гостиницу, где консьержка снабжала меня зубной пастой, туалетной бумагой и аспирином от моих головных болей, а также разрешала повременить с оплатой номера.
Когда я впервые повстречался с Энджи в кафе «Липп», она сказала:
– Давай договоримся кое о чем? Давай не будем слишком много расспрашивать о прошлом?
«Какое у нее может быть прошлое?» – подумал я тогда. Ей было – страшно подумать – девятнадцать лет. А мне – трудно поверить – двадцать пять. Стоял июль, и в тот день она единственная на всем бульваре сидела на солнцепеке, не нуждаясь в тени. Легчайший ветерок шевелил ее длинные черные, ниспадающие на плечи волосы. Она показалась бы мне очень утонченной в своих черных сапогах с заправленными джинсами, как носили француженки, если бы не смехотворный плюшевый мишка, которого она усадила рядом с собой на скамейку. Позже, кроме мишки, ее выдавала еще привычка, забывшись, грызть ногти – это совершенно не сочеталось с остальным обликом, который она себе выстроила, с натренированной, решительной уверенностью.