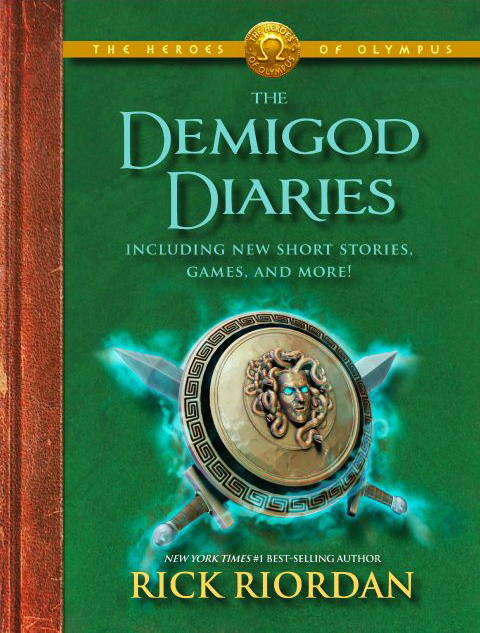Книга Судьбы передвижников - Елизавета Э. Газарова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Её или непомерно хвалят, или непомерно бранят… Одновременность этих двух непомерностей свидетельствует, что картина во всяком случае замечательна. И действительно, это большое и смелое произведение, хотя я должен признаться, что для меня она не совсем ясна», – делился своими размышлениями о потрясшей общественность картине Ге Николай Константинович Михайловский, разделивший обескураженность большинства.
А вот Алексей Сергеевич Суворин сделал попытку прояснить трактовку художника: «С одной стороны, богатство, власть, сытость, с другой – бедность и изнурение. Бедность говорит об истине, богатство пренебрежительно спрашивает: “что есть истина?” и уходит, не дожидаясь ответа. В этом смысл картины».
В письме Николаю Александровичу Ярошенко – одному из немногих, кто заступился за свободную от трафаретных представлений интерпретацию евангельского сюжета, – Николай Ге так описал сложное впечатление, произведённое его творением: «…более 30 лет я знаю выставки, но такого состояния самой публики я не видал. Точно не картину они видят, а самое дело, только это их бьёт по щекам, иначе нельзя себе объяснить этого потока ругательств и гиканья».
Три недели «Что есть истина?» вызывала яростные дискуссии, пока не последовало распоряжение картину запретить. Николай Николаевич попросил Ярошенко на некоторое время приютить его изгнанное детище, а потом обратился к Владимиру Григорьевичу Черткову с просьбой посодействовать отправке не понятой соотечественниками работы на заграничную выставку. Лев Толстой в письме Третьякову выразил возмущение тем обстоятельством, что собиратель русского искусства не посчитал своим долгом принять в свою коллекцию подлинную, по мнению писателя, «жемчужину». На что осторожный и деликатный Павел Михайлович признался, что не понимает этого произведения Ге, а лишь угадывает в художнике затаённую силу таланта. Третьяков дал понять Толстому, что в своём отрицании скандальной картины он далеко не одинок. Отдавая должное громадному авторитету писателя, Павел Михайлович пишет ему: «…Ваше мнение так велико и значительно, что я должен, во избежание невозможности поправить ошибку, теперь же приобрести картину и беречь её до времени, когда можно будет выставить».
Сам Николай Николаевич не питает надежд на скорый позитивный сдвиг в восприятии обществом его творения и пессимистично рисует в письме Николаю Ярошенко беспросветность сложившейся обстановки: «Неужели вы не понимаете, что свинья 1000-головая подняла морду и почувствовала своё время?.. У нас нет друзей, у нас все враги и публика, и художники, и старые, и младые ещё пуще… Неужели вы не видите даже у нас эту подделку под вкус рубля? Дело наше кончено, песня спета. Мы ещё будем продолжать агонию, не знаю, долго или коротко, но торжества мы своего не увидим. Конец».
Почти одновременно с «Христосом и Пилатом» из мастерской Ге отправилась на выставку картина «Совесть. Иуда», но публика и критика вновь развели руками в недоумении. Павел Петрович Чистяков, увидев картину, заметил Третьякову: «Ге может очень не худо исполнять, но он шалит и много беса имеет в себе, надеется на себя чересчур. А это самомнение – грех…»
Когда Николай Ге появлялся в столице, многие, желая увидеть и услышать неординарного художника, устремлялись к нему, и Николай Николаевич, дабы охватить своим вниманием всех и каждого, приноровился выступать перед собравшимися в форме «полуразговора, полулекции или проповеди». В грубой холщовой рубашке и поношенном пиджаке он показывался всюду, независимо от статуса собрания. Слово не письменное, а устное было для него основным средством вовлечения людей в свою идейную орбиту. Современники ценили «чудный ум» живописца Ге, удивляясь, «…как всё в нём совмещалось. Страстное негодование, неистощимый юмор, удивительная задушевность».
Николай Ге тяжело переживал академическую реформу, внесшую раскол в среду передвижников, хотя к этому времени успел разочароваться в деятельности Товарищества. По словам ученика художника, Николай Николаевич задумывал написать историю передвижничества, осветив причины успеха и упадка организации. «Прочту некролог Товарищества и сам уйду», – якобы говаривал Ге. Но есть свидетельства, согласно которым живописец приветствовал оживление академической жизни силами передвижников. Что он точно осуждал, так это ретроградство старой гвардии Товарищества, не допускавшей талантливую молодёжь на свои выставки.
В марте 1891 года Ге присутствовал на годичном собрании ТПХВ в Петербурге и вместе с Поленовым высказался за предоставление молодым художникам бо`льших прав. Любопытно письмо Василия Дмитриевича, адресованное Ге, после того памятного собрания: «Разговоры с Вами и вообще Ваши речи совершенно изменили мои отношения к людям и делу. Прежде я считал всех несогласных со мною (Ярошенко, Прянишникова и комп.) почти что моими врагами. А теперь просто людьми, идущими, может быть, к той же цели, но с другими средствами. Потому что есть два способа действовать: первое страхом, а второе любовью. Они просто ещё на первой ступени и не дошли до того идеала человечности, который Вы проповедуете…»
В ноябре 1891 года 35-летнее супружество Ге с Анной Петровной завершилось кончиной жены художника. Похоронив её в саду, рядом с домом, Николай Николаевич переживал горькое одиночество, хотя рядом с ним постоянно находилась родня, его не забывали ученики. Беспросветность окружающей действительности усугубляла депрессивное состояние Ге, в котором он признавался так: «Я знаю, что время ужасное мы переживаем, знаю, что это начало бедствия, и мысль и фантазия слабы, чтобы хоть сколько-нибудь угадать, до чего бедствие дойдёт… сердце болит. Тоска мучит и давит».
Мрачное предвидение побудило живописца взяться за «Распятие» в самом его трагическом толковании. Впрочем, наиболее драматичный евангельский сюжет будоражил воображение художника уже давно, воплотившись в большом количестве эскизов. Но мысль художника рвалась ко всё более сотрясающим сознание и душу решениям трагической сцены, традиционно вызывавшей у зрителя всего лишь смиренную скорбь. Живописец жаждал высечь из сердец, примирившихся со страшным испытанием, выпавшим на долю Спасителя, не привычное сострадание, а раскаяние, нравственное самобичевание, адовые муки переживания свершившейся чудовищной расправы как воплощения несовершенства мира вообще. «Я заставлю их рыдать, а не умиляться. Возвратясь с выставки, они надолго забудут о своих глупых интересах», – гневно предвещал художник.
«Николай Николаевич начал писать “Распятие” ещё в 1884 году, – вспоминала невестка художника Екатерина Ивановна Ге, – и я никак не думала, что он эту картину напишет: столько он её переписывал и так с нею мучился. Всё был недоволен выражением своей мысли».
Художник скрупулёзен в подготовительной работе, в изучении исторических материалов. В поисках наиболее верного решения Ге заполнял альбомы бесчисленными зарисовками, исполнял масляными красками большие эскизы. На зов помощи Николая Николаевича откликнулись ученики. Прибыв на хутор Ивановский из Киева, они в качестве натурщиков, используя верёвки, изображали распятое тело, в котором ещё недавно теплилась великая душа, и надо было обладать невероятным терпением и верой в мастера, чтобы выдержать такие необычные и продолжительные сеансы позирования. Сам же художник работает