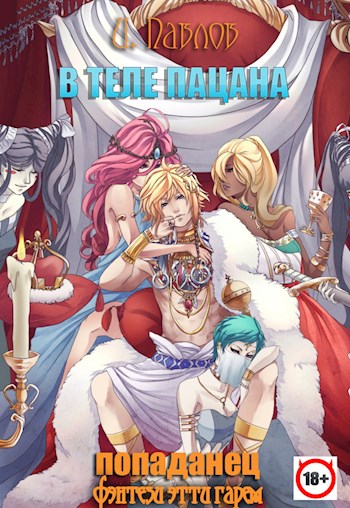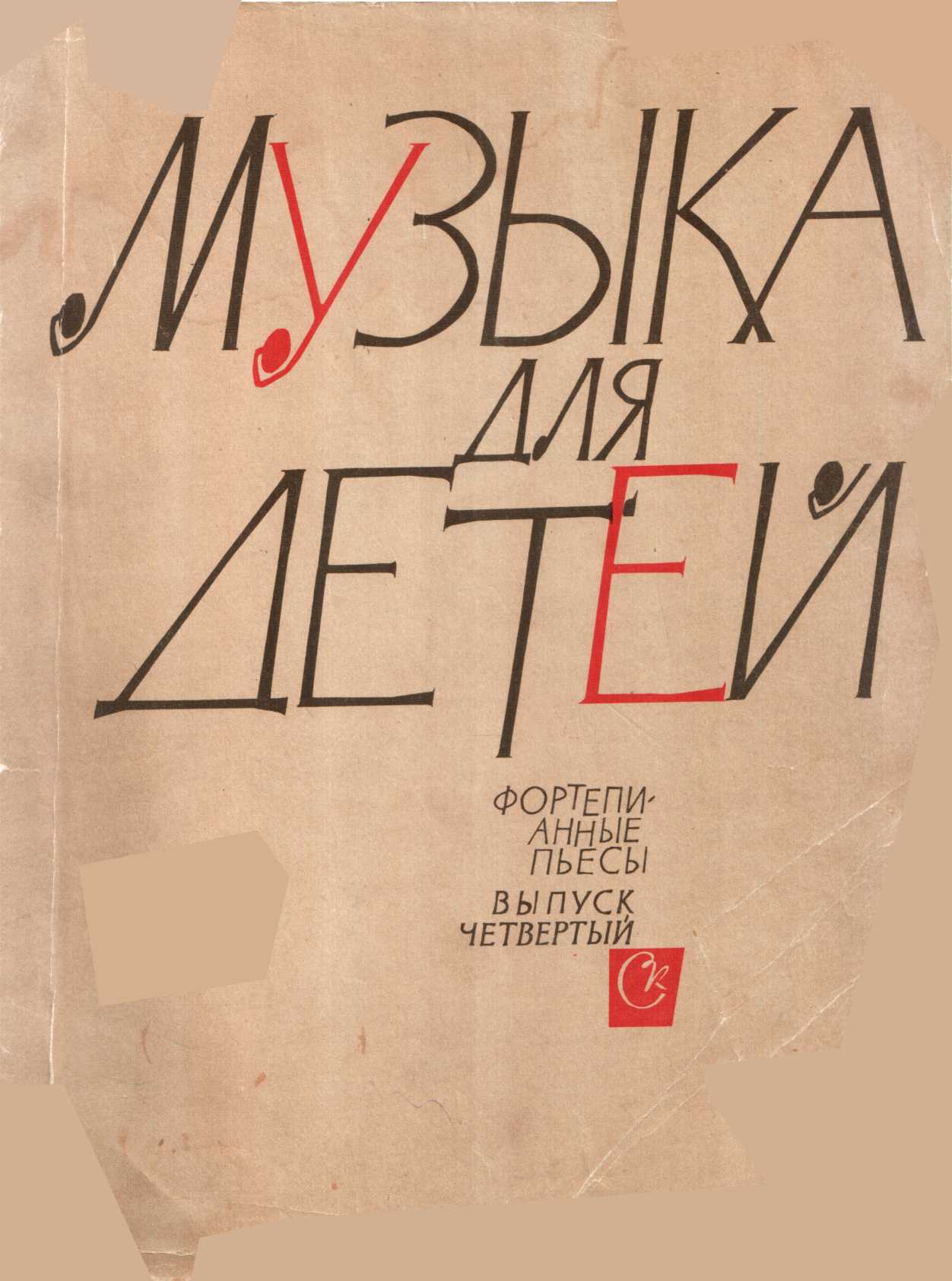Книга А. К. Глазунов - Алиса Сигизмундовна Курцман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Эх, Владимир Васильевич, — вдруг сказал он, и его светлые, почти водянистые глаза с беспредельной нежностью устремились на Владимира Васильевича,— если бы я слышал в жизни столько, сколько вы!
— А на что вам? — удивляется Стасов.
— Да вот, не знаешь, за кого уцепиться, когда делаешь новую роль. Пример: Фарлаф. Вот вы Осипа Афанасьевича Петрова слышали?
— Слышал, и это было очень хорошо, но...
— Что «но»?
— Надо всегда думать, что сделаешь лучше, чем до нас делали.
— Знаете, стыдно, я так вот и думал, да только надо на вас проверить.
— А ну-ка покажите.
— Хочу я так. Не вбегает он на сцену. Можно?
— Ну почему же нельзя.
— Фарлаф лежит во рву, то есть я лежу и убедил себя, что давно лежу и вылезти страшно, ой, как страшно! И когда занавес пошел — на сцене ни-ни, ни души, и вдруг из рва часть трусливой, испуганной морды, еще и еще, и вдруг вся голова, а затем сам целиком, вот вытянулся...
Федор Иванович спрятался за стул и стал постепенно выглядывать из-за него. Когда же он показался весь — Шаляпина в комнате не было, а стоял гигантский верзила, сам себя напугавший.
Глазунов сел за рояль, и «Фарлаф», все еще трусливо оглядываясь на воображаемый «ров», запел:
Я весь дрожу, и, если бы не ров,
Куда я спрятался поспешно, не уцелеть бы мне!
В порыве радостной восторженности Стасов тоже вытянулся перед Шаляпиным во весь богатырский рост и поцеловал его.
— Ну, уж бесконечно умнее, тоньше и вкуснее, чем у Петрова! — Тогда обрадованный певец стал показывать дальше — сцену Фарлафа с Наиной. Мгновенно преображаясь, то худея и как-то сморщиваясь, то снова вырастая в колоссального гиганта, Шаляпин исполнял и партию Наины, и партию Фарлафа. Когда же Наина исчезла, посулив близкую и легкую победу, чувствовалось, что Фарлаф, все еще испуганный, видит «страшную старушку». Вдруг обрадовался: нет! И чтобы убедиться в этом, сперва пощупал ногой место исчезновения Наины, потом с торжеством наступил на него всей тяжестью своей фигуры, и тогда началось его знаменитое:
Близок уж час торжества моего.
— Нет, господа, — заявил Шаляпин, пропев и показав всю сцену. — Нам теперь музыки надо. Петь до смерти хочется.
— А доктор что скажет, — шутливо удивляется Стасов.— Ведь не велел, строго запретил...
— Пускай, пускай, теперь нам музыки надо.— И Шаляпин направился к роялю. Его лицо стало вдохновенным и строгим. Он ждал вступления, и Глазунов начал «Дубинушку».
Эту песню научил Шаляпина петь Горький. Сейчас он тоже здесь. Сидит рядом с Федором и внимательно слушает, вспоминая их совместные дороги странствий. Алексей Максимович еще совсем молодой и мало кому известный писатель. Он немного стесняется этого собрания знаменитостей, и вместе с тем все ему здесь интересно. Поэтому широкоскулое лицо его с крутым изломом бровей приобретает то мечтательное, то хмурое выражение.
— Что же это делает Федор, — говорит Горький удивленно, наклоняясь к Стасову. — Вот играют, играют музыку, у кого ловко выходит, у кого — звонко. А он споет слово, два, фразу — и словно видишь всего человека, а порой и целый мир.
— Вот как у Льва, — отвечает Стасов, нарочно называя Толстого только по имени,— читаешь, словно слов не чувствуешь, тоже две-три фразы привычные, штрих, деталь, и схватил человека всего — с душой, одеждой, обстановкой, и тут же природа.
— Да, Толстой — это гений, — оборачивается от рояля Александр Константинович (он уже несколько минут прислушивался к разговору). — Пожалуй, я люблю его сейчас больше всего.
— А Пушкин? — говорит Алексей Максимович, завороженно глядя на Глазунова.— Вот вы сейчас проаккомпанировали Федору свою «Вакхическую песнь». Это же настоящий Пушкин! Как он вам близок!
— Да, мне действительно хотелось выразить здесь свое преклонение перед Пушкиным.
Когда переиграли все произведения, которые нашлись в доме, Шаляпин стал петь наизусть. Не отрывая глаз от певца, Александр Константинович внимательно следовал за всеми тончайшими оттенками его исполнения.
В самом конце вечера Федор Иванович спел «Блоху» Мусоргского.
С едкой, саркастической улыбкой начал Шаляпин странный рассказ, который поведал когда-то в кабачке гётевский Мефистофель:
Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила.
Милей родного брата
Она ему была...
Постепенно облик певца становился все более гневным, глаза начинали сверкать злобой.
От блох не стало мочи,
Не стало и житья,—
возмущенно произнес он и, наконец, ураганом обрушил последнюю строфу:
А мы, кто стал кусаться,
Тотчас давай душить!
Даже Глазунов, обычно внешне невозмутимый, был потрясен. Не в силах сдержать своего волнения, Стасов подбежал к Федору, чтобы еще раз обнять и поцеловать его. Глаза Владимира Васильевича смотрели так проницательно и умно и так сияли, что нельзя было им не залюбоваться.
Шаляпин, любовно глядя на Стасова, говорил:
— Люблю Мефистофеля. Когда пою его в опере, у Гуно, то при взгляде на хилых Фаустов, которым нужно возвращать молодость да еще доставлять Маргарит, всегда вспоминаю Владимира Васильевича. Это, по-моему, единственный Фауст, который по плечу черту.
Расходиться начали только в третьем часу. Ночь была теплая и влажная. Звезды, переменив прежнее место, стали светить еще ярче. Но теперь это не вызывало грусти. Сегодня уже никому человек не мог показаться песчинкой, даже в сравнении со сверкающими, вечными звездами.
Глазунов подумал о «Пасторальной». Торжественный финал симфонии с его энергичными фанфарами и богатырской мощью оправданы. Они неизбежны. Вот почему темы предыдущих частей симфонии, то игриво-беззаботные, то скорбно-философские, появляясь в финале, изменяют свой облик, подчиняясь все нарастающему и ширящемуся ликованию.
У крыльца ждал привычный возница. Александр Константинович снова взобрался в коляску. Удобно устраиваясь на сидении, он думал:
— Молодец Федор! Ведь совсем недавно пел, как все, пока его вот на таком же вечере у Стасова кто-то не спросил: «Да ты понимаешь, что поешь?» И с тех пор как вырос! А Стасов! Что за великолепный старик! И всегда вытянет музыку. Не хочется, совсем не хочется играть, а заиграешь. Сердце радуется, когда он слушает.
КОНСЕРВАТОРИЯ
«С