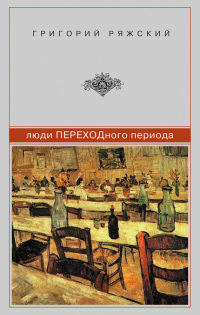Книга Страстотерпицы - Валентина Сидоренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Панка не то спала, не то затихла просто, как сурок, сжалась, ткнувшись Анне в плечо. Анна закрыла глаза и загадала: «Если я досчитаю до пяти и будет так же тихо, то я не стану артисткой, а если будет звук, то стану…»
Она медленно досчитала до пяти, и на последнем счете тишина сломалась – у клуба растянули мехи баяна, и Таня, старшая Панкина сестра, просватанная уже за бригадирского сына Лешку Агеева, со звонким напором, вызывающе выкрикнула:
Панка тут же встрепенулась и вскочила, выглядывая в дверцу чердака.
У клуба завозились, затопали, и тонкий лихой девичий голос оборвал Таню:
– Юрка Тарасик пришел, – блестя глазами, сказала Панка.
Она была влюблена в Тарасика и как-то даже поклялась, что замуж только за него выйдет или так в девках и останется.
Юрка Тарасик, кудрявый тихоня, гулял уже с девчонкой, своей одногодкой. Скоро его призовут в армию, и Панка спокойно говорила о его подруге.
– Она его не дождется, ветродуйка такая… А я как раз ему под пару выровняюсь… Вот посмотришь… Беда, какой красивый, – вздохнула Панка о Тарасике. – Чернявенький, еще бы усики – и картинка, а не парень.
– А если он не вернется? – опасливо спросила Анна.
– Я его под землей сыщу, – деловито ответила Панка. – Все равно мой будет…
А какой будет у нее, у Анны, и что там будет впереди? Что там впереди, за этими лесами, пригорками, елками, вытоптанной поскотиной, бревенчатыми селами, за этой сырой скукой сибирской глуши?
Под утро в молочном тумане, пригибаясь под окнами, чтобы не видела мать, возвращалась Таня. Обласкав девчонок, счастливо и коротко засыпала. Уже когда совсем светло, она тормошила их: подавала теплое, первой дойки молоко, сама жевала хлеб.
– Андрейка дурак у вас, – сообщила она Анне. – Тятя родимый говорит, что вчерась подглядывать лазил к Ивашкиным, на баню… Отодрать его, как Сидорову козу, и все тут…
Она сладко потягивалась, падая на ворох сена, и замолкала, улыбаясь чему-то потаенному, своему и, сдобное, слегка побледневшее от бессонной ночи ее лицо круглилось, довольно сияя ямочками. Девчонки понимающе смотрели на нее, и каждая думала о своем. Панка о Тарасике, а Анна, глядя на счастливую, нацелованную, намилованную Таню, думала, что у нее будет не так. Ничего схожего ни с Таниной радостью, ни с полынной жизнью матери. У нее будет высокая любовь, такая красивая, как в книгах. И у нее дух захватывало от такой мысли.
– Вон твой батянька поспешает, – глядя на улицу с сеновала, сообщила Таня. – Встречай родимого.
Отец стучал кнутовищем в калитку, не глядя на Анну, хмуро приказывал:
– Спроси у Таньки квасу.
Потом пил его жадно, до капли, утираясь рукавом, ворчал:
– Иди во двор. Сейчас мать пришлю. Бегаете, меня позорите…
Трактор у отца отобрали, он едва не утопил его в болоте.
Сейчас он пас частный скот. Иногда наутро мать выгоняла стадо на пастбище сама. Попозднее он приходил к ней, нескладно и тяжело оправдывался, что проспал. Она молча бросала ему кнут и уходила домой.
Сколько себя помнит Анна, всегда хотела быть только артисткой. Марфуша звала ее обезьянкой за умение передразнивать подружек и поселкового дурачка Володеньку. В редкие дни, когда приезжала передвижка, задолго до начала фильмов Анна прибегала к клубу. Одиноко примостившись у порога, по многу раз пересматривала с восторженной жадностью добрые, сентиментальные довоенные фильмы. Вечером, после кино, тайком от матери переодевалась в праздничное ее шелковое темно-синее платье с оборками, которое отец привез с войны, стягивала платье сзади у пояса, тревожно всматривалась в зеркало…
Панка наблюдала за ней и строго экзаменовала:
– Ну-ка, покажи Орлову…
Анна изображала Орлову из «Волги-Волги» или артистку из сильно нравившегося ей фильма «Машенька».
Панка, во время Анниных представлений согласно кивавшая головой, позже сомневалась: «Цыганистая ты какая-то. Как полено обгорелое. Я одну артистку видела, – врала она, – та беленькая такая, мягкая…»
После выпускного вечера Анна, ни слова никому не сказав, отправила документы и заявление в город в театральное училище. Фотографироваться ездила в район и просила фотографа, чтобы побелее сделал. И ждала почтальоншу каждый день, как мать родную. А когда та вручала ей казенный конвертик, то Анна так растерялась, будто и не думала, что придет письмо. Показала матери вызов на экзамены, та долго не могла понять, в чем дело, и только прочитав черные печатные буквы грифа училища и свою фамилию, заплакала, вытирая фартуком слезы – и от счастья за дочернину жизнь, и от обиды за свою, – будто все уже совершилось и Анна готова в актрисы. Долго пришлось втолковывать, что это еще только вызов.
Отец почесал затылок и хмуро бросил:
– Я те покажу артистку. Отца позорить. Мало тебе клуба вон…
Однако повздыхал, глядя, как собирается Анна, потом подтянул штаны и пошел к соседке отметить событие.
Провожала в город ее одна мать. С Панкой они простились накануне. Подружка даже немного позавидовала, но потом весело протараторила весь вечер и написала длинный список, что ей купить в магазинах города. Двинулись до отделения пешком, попутки не случилось. Мать сама несла чемодан через кукурузное поле до легкого, уже золотистого березового леска. Потом остановилась и, с напряженной жалостью в лице глядя на дочь, всхлипнула.
Анна молчала, серьезно глядя на мать. Мать высокая, костистая, сутулилась перед нею, сморщилось от слез темное тревожное ее лицо.
– С парнями не связывайся. Учись больше. Если захочешь сойтись, чтоб все по-доброму. Помяни меня: баба как жизнь начнет, так она у нее и покатится. Чтоб не так, как девки балуются, а серьезно, со счастьем. Счастье вначале спугнешь, потом не догонишь. Ну, Христос с тобою. – Она нагнулась, взяла ее голову, поцеловала в волосы и заплакала.
Анна подняла чемодан, пошла оглядываясь.
– В столовой устройся, если что, – крикнула мать, – питание там. Или в детский сад какой, нянечкой. Там тоже кормят!
Анна медленно входила в березовый лесок, часто оглядываясь, и, казалось, уже отдаляется и деревня и мать, отодвигается все, и рвущее чувство жалости к этому, родному, кровному, смешивалось с тайным страхом и радостью перед тем, что еще предстояло. И пока она шла через лесок до поворота дороги, мать все смотрела на нее, стояла высокая, сутулая, в обвисшей темной юбке, резиновых черных сапогах, и, приложив конец платка к губам, смотрела и смотрела ей вслед…
* * *
Высоко в небе летела птица. Иногда она застывала на короткий миг, чтобы собрать силы, потом резко взмывала вверх, кружилась и застывала опять. Наконец она прилепилась где-то там высоко, казалось, на уровне с солнцем, крошечной родинкой, и не двигалась. Анна вошла в воду, и сразу цепкой дрожью занялось тело, и она растерялась, но ее спутник так просто и спокойно лег на воду, поплыл, не глядя на нее, что и ей пришлось, чтобы не отставать, суетливо забарахтаться. Сначала она плыла торопливо и всем непослушным, отвыкшим от настоящей воды телом. Быстро выдохлась. Парень, выплывший рядом, заставил ее отдыхать на спине, потом тихо поддержал: