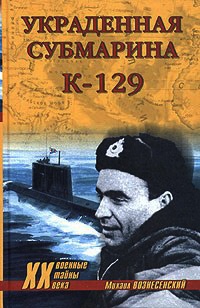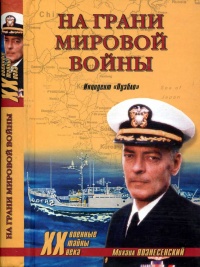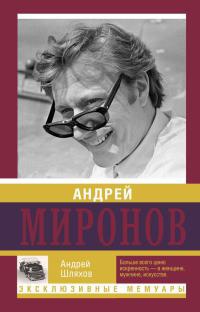Книга Андрей Вознесенский - Игорь Вирабов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Теперь всё, абсолютно всё вокруг Вознесенского стало сбываться, аукаться. На всех уровнях.
«Предсказания книги сбывались. Я, шутя, нарисовал видеому: зубцы кремлевской стены складывались в буквы МММ, напоминая о тогдашней „пирамиде“ Мавроди. Только сейчас стал ясен смысл рисунка. Именно Кремль создал „пирамиду“ ГКО (Государственные краткосрочные облигации) — аферу государственного масштаба», — обнаружит Вознесенский.
Да-да, он, Вознесенский, — такой-сякой — весь в противоречиях и самоисках. И в выпендрежах, и в горьком самоедстве. Любил эффектные жесты, и одновременно, как никто, был обаятелен и самоироничен. «Я — сальто перевернутой отчизны. /Я — старый клоун. / В клюкве, не в крови» («ru»).
Кончилось одно столетие, открылось новое. А литсобратья и блогеры, как недо- и перекритики, будто с цепи сорвавшись, кидаются на Вознесенского. И после смерти поэта — продолжат. Но искренне полагая, что говорят значительно и ново, они буквально, чуть ли не слово в слово, повторяют все, что слышал Вознесенский с конца пятидесятых. Будь они трижды постэмигранты, постлибералы, постпочвенники или постмодернисты, — озлобленность так часто их роднит, и мысли сходятся. Пусть себе… Их кувшины шлепаются шумно, с грохотом.
Из его кувшина по-прежнему не успевает пролиться ни капли.
Нет на рубеже эпох другого поэта, которому вдруг неземные озарения, соседствуя с простительной телесной слабостью, открыли бы — а что там, за чертой, которую увидеть смертным не дано? Куда заглядывать опасно… Становится не по себе, когда в его «Облаках» по искромсанной карте страны скользит вдруг тенью Краматорск… Ну а вот это — откуда? Почему именно Краматорск? Еще одно сбывшееся предчувствие?
«Улети моя боль, утеки! / А пока — / надо мною плывут утюги, / плоскодонные, как облака. / Днища струйкой плюют на граждан, / на Москву, на Великий Устюг, / для отпарки их и для глажки / и других сердобольных услуг. / Коченеет цветочной капустой / их великая белая мощь — / снизу срезанная, как бюсты, / в париках мукомольных, вельмож…»
* * *
Критик недоумевал когда-то, читая «Ров». Что за ерунда? Вознесенский в финале поэмы Алчь противопоставил Речи. Если погибнет Речь — восторжествует Алчь? Где одно — и где второе? Казалось, нелогично…
Но с самого начала 1990-х, едва отвалившись от Советского Союза, Прибалтика, а следом и другие «братские республики» все силы бросили на то, чтобы изжить русский язык. Русскую литературу. Русские фамилии: был Иванов — стал Ивановс. И наконец на Украине от войны с русским языком, окажется, — лишь шаг к войне с его носителями. Чтобы разрушить народ — прежде надо разрушить язык. И среди первых жертв безумных войн окажутся поэты. На абхазской войне застрелен «куртуазный маньерист» Александр Бардодым. В одесском Доме профсоюзов нелюди сожгут поэта Вадима Негатурова…
Можно как угодно относиться к идеалам, ради которых погибали защитники русской речи. Но убивали их всегда — по сути из-за Алчи.
Об этом Вознесенский и писал.
В имени Россия он увидел отсвет — Poesia. Хотя, казалось бы, какая тут Poesia, — когда страна, добровольно разрушив себя в мирное время, неслась в беспредел девяностых — с перечеркнутым народом, абсолютно лживой иллюзией свободы для всех — и абсолютно безграничной свободой для того, кто в состоянии приобрести себе дачку в центре Лондона и на Лазурном Берегу. Чтобы регулировать финансовые реки, вытекающие из России, мучительно припоминая нужные слова: как это будет по-русски? И об этом писал Вознесенский:
«На наших глазах может погибнуть край неизъяснимой красоты, разбитая вдребезги духовная общность, для которой буквально Слово — Бог, страна, давшая в даже тоталитарный век прозрения Хлебникова и стон Цветаевой, единственная страна, соборно слушающая стихи на стадионах. Зачем была ее жизнь? У каждого народа своя роль на Земле.
Неужели и языку нашему животворному суждено погибнуть, окаменеть, подобно латыни, хранящей слепок с живого некогда Рима? Гибель языка означает гибель сознания»…
* * *
Тут встрепенулся новый критик. Неймется же — год, как нет Андрея Андреевича, а он выносит приговор: «Народ все меньше интересовался самым модным поэтом! Литература (не в последнюю очередь благодаря тем же евтушенкам и вознесенским) уходила из жизни».
Что уходила и уходит — правда. Но есть ли хоть капля справедливости в том утверждении, что враги литературы — Вознесенский, Евтушенко, а с ними Ахмадулина, Аксенов, Окуджава?
Ну да! Конечно! Как не вспомнить! Вознесенский добивал литературу — сделав все, чтобы открылся, наконец, дом-музей Пастернака!
Вознесенский уничтожал литературу — когда проталкивал первое за много лет издание Бальмонта!
Или вступая в переписку с Верой Коренди, вдовой поэта, благодарившей за эссе о неиздаваемом Северянине!
И тем, что в собрании сочинений Высоцкого случайно оказалась Вознесенская «Песня акына» — настолько с нею сроднился Владимир Семенович, — тоже нанес удар по русской словесности!
А как поиздевался он над всей литературой — когда не только подписал письмо в защиту, но и подвез однажды в город — Зоя за рулем — самого Солженицына!
И еще. Передовые либералы, было дело, писали письма Ельцину: четвертовать и раздавить гадюк инакомыслия. А Вознесенский их не одобрял. Зато чуть позже подписал письмо с протестом против издевательских реформ образования и урезания литературы в школе. Конечно, это тоже он — назло русской словесности!
Не будем продолжать до бесконечности. Что тут скажешь, грешен.
А как насчет того, что «народ все меньше интересовался» Вознесенским?
Тут, конечно, мог бы что-нибудь сказать потрясенный режиссер Кирилл Серебренников. Он любит то и дело вспоминать мизансцену в том самом Политехническом. Битком набитый зал, юная аудитория двухтысячных. Входит поэт, припавший к Зое, старый, искаженный болезнью, рука примотана. И аудитория — не по команде — вдруг единым взмахом поднялась. Такие фейерверки обожания — к кому? К тому смешному и немощному?
Но отправимся, читатель, дальше. Маршрутами Вознесенского. Они бегут по карте вензелями, переплетавшими и связывавшими страну, которую, ну скажем прямо, зачем-то растащили и разворовали. «Для меня суть России — не в ее супостатах, а в Заболоцком, Тарковском или в юной поэтессе из Барнаула, выдохнувшей хрустальную строку…» Вопрос: а ждала ли поэта страна? Списанные кем-то со счетов читатели — интересовались ли?