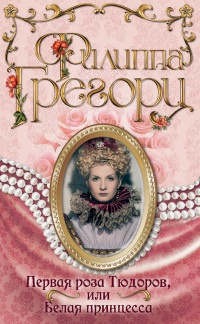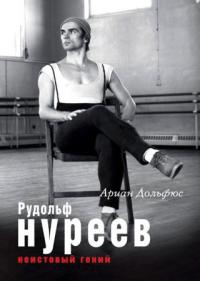Книга Рудольф Нуреев. Жизнь - Джули Кавана
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После того как в самолете ему не оказали особого обращения, Рудольф обрадовался, увидев, что в Уфе его встречает фотограф. «Хорошо, хорошо. Отлично! – сказал он, когда Виктор Воног приветствовал его на взлетной полосе, объявив, что будет записывать всю поездку. – Меня кто-нибудь встречает?» – «Да, ваша сестра, племянники и племянница». В зале «Интуриста» стояли Резеда, два ее сына, Виктор (25 лет) и Юрий (18 лет), а также Альфия, которую Рудольф в последний раз видел через несколько часов после того, как она родилась. «Я помню тебя совсем маленькой и красной», – поддразнил он, но Альфия говорит, что это дядя «выглядел очень странно – так странно, что все на него оборачивались». Поскольку было почти пять утра – в Уфе время на два часа опережает Москву, – все были слишком усталыми для того, чтобы как следует знакомиться, поэтому договорились встретиться позже. Рудольф с двумя своими знакомыми отправился в гостиницу «Россия». (Судя по всему, позже он снова выходил, потому что, когда приехал Виктор, чтобы забрать его, как было условлено, дежурная по этажу сказала, что он недавно вернулся и еще спит.) Около одиннадцати Виктор вернулся, чтобы везти Рудольфа в квартиру на проспекте Октября, но, когда он попросил разрешения сфотографировать момент встречи с Фаридой, Рудольф отрезал: «С матерью – нет!» – и велел ему вернуться через сорок минут.
Настал миг, которого Рудольф ждал много лет. «Я столько хотел ее спросить, – говорил он Линде Мейбердик, которая вспоминает, как «ему всегда хотелось выяснить, например, в какое время он родился и в самом ли деле он родился в поезде». Он не питал никаких иллюзий, понимая, что, когда они наконец встретятся, они с матерью будут чужими друг другу: «Нам пришлось бы заново всему учиться». Кроме того, он, конечно, знал о состоянии ее здоровья. Но ничто не подготовило его к удару, когда он увидел ту картину бедности и страданий, которую в свое время нарисовал Евгений Петрович. «Комната была совершенно пустой… только вытертый диван, покрытый клеенкой, и тумбочка. На диване лежала скрюченная старуха… Она даже не открыла глаз. Только то, что она время от времени медленно шевелила ногами и пальцами рук, и свидетельствовало о том, что она жива».
По сей день Люба жалеет, что не предложила Рудольфу, чтобы с ним пошел Фаиль, поскольку «с помощью иглоукалывания, возможно, их общение было бы более плодотворным». Тогда же Фарида никак не отреагировала на присутствие Рудольфа. «Она меня не узнала», – позже говорил он друзьям. Резеда говорит, что после того, как он уехал, она спросила мать, поняла ли она, кто побывал у нее. «Да. Это был Рудик», – прошептала Фарида. Но Рудольфа не столько потрясло то, что мать не выказывала признаков того, что она его узнала, а что он сам не узнал ее. «Она стала другой, – признался он Шарлю Жюду, добавив, что то же самое было с Эриком. – Как что-то конченое». Рудольф снова приехал слишком поздно, и на сей раз он не мог простить советское правительство. Они – «мастера мучить, – как он сказал Линде Мейбердик. – Они нанесли последний удар».
Рудольф пробыл в комнате меньше десяти минут, и хотя он ничего не сказал, когда вышел, его родственники поняли, насколько он потрясен. «Это я знаю наверняка, – говорит Альфия. – Но ему удалось спрятать эмоции и вести себя, как будто все нормально». И родственники тоже изо всех сил старались показать Рудольфу, что у них все хорошо. «Они купили мясо на рынке, сделали пельмени, были рады ему. Но все это было просто «потемкинской деревней», – заметил Евгений Петрович. – Если бы Рудик приехал без объявления, он увидел бы их настоящую жизнь». На самом деле меньше всего Рудольф хотел обильного застолья, но для того, чтобы не обидеть родных, он ел русский хлеб, который он любил, с маслом, и выпил четыре стакана чая. «Нам всем было немного неловко, – вспоминает Резеда. – Трудно было начать разговор, потому что мы не знали, что сказать. Мы видели разницу между ним и нами». Рудольф сказал, что ему трудно говорить по-русски, потому что приходится переводить все для себя сначала на английский, а потом обратно. Но, сознавая, каким недоступным он им кажется, он старался в основном говорить сам, с неподдельным интересом расспрашивая племянников о том, чем они занимаются в Уфе. На слова Юрия о том, что он учит немецкий, Рудольф ответил: «Хм, это хорошо. Все, что ты делаешь, ты должен делать хорошо. Если работаешь прилежно, успех придет». Потом он спросил Резеду: «А ты что бы хотела делать? Чему бы ты хотела научиться?» Она ответила, что она уже старая, а он улыбнулся, словно говоря: «Что ж, так тому и быть».
Рудольф больше не пошел посмотреть на Фариду, и когда Виктор увидел, что он подходит к машине, он заметил «что-то в его лице, какое-то облако печали». Они поехали по городу, остановились на рынке, где Рудольф купил теплые шерстяные чулки, которые он собирался носить в классе как гетры. Он видел не ту Уфу, какую запомнил. Почти все деревянные избы сменились современными многоквартирными домами. «Я даже немного жалею, что все стало современным, – заметил он позднее. – Красивые широкие улицы, самые высокие дома пятиэтажные, поэтому все не так уродливо, много деревьев». Он сначала хотел поехать в оперный театр и сразу направился в одну из студий, рассматривая фото танцовщиков, которых он помнил. Пришел директор, и Рудольф попросил, чтобы его вывели на сцену, где он попробовал исполнить несколько элементов, морщась оттого, что дощатый пол плохо пружинил. «Металл?» – «Нет, нет, – ответил директор, не расслышав иронии. – Пол дубовый». – «Металл», – повторил Рудольф. Пока его водили по театру, он попросил Виктора узнать в справочной три или четыре номера. Один из них принадлежал Зайтуне Насретдиновой, балерине, которая танцевала в «Журавлиной песне» в тот день, когда решилась судьба семилетнего Рудика. Ни она, ни кто другой не подошли к телефону, и он пожал плечами: «Ну ладно, что же нам делать?» Виктор предложил пойти в дом 37 по улице Зенцовой, где раньше жили Нуреевы, но теперь там стоял гараж из рифленого железа. Попросив сфотографировать его перед типичной избой и во дворе другой избы («очень похожей на картины Поленова»), они поднялись на гору Салават, где Рудольф сидел, наблюдая за поездами, которые манили его на Запад. Так как рядом находилось мусульманское кладбище, Виктор предложил Рудольфу навестить могилу отца и был потрясен, когда тот отказался и вместо того попросил везти его в школу номер 2 на улице Свердлова.
Школа номер 2 стала Уфимским хореографическим училищем[190], и его директор, Алик Бикчурин (студент Вагановского училища, которого Рудольф когда-то уговорил познакомить его со своими ленинградскими педагогами), утверждает, что власти намеренно услали его за двести километров, чтобы он не мог встретиться с Рудольфом. «Они хотели создать впечатление, что они безучастно отнеслись к его приезду, что к ним приехал кто-то чужой. В театре всем дали выходной». В Филармонии музыкантов отправили с репетиции домой за час до прихода звезды, а в Музее Нестерова крепко сбитая охранница повсюду ходила за Рудольфом и грубо закричала, когда увидела, что он берет какую-то фотографию. Понимая, что его визит начинает приобретать вид фарса, Рудольф выразил готовность ехать, как только пора было ехать в аэропорт.
В московском аэропорту Домодедово отношение к нему было таким же враждебным. «Я начала побаиваться», – говорит Жанин, описывая, как таможенники тут же конфисковали башкирский мед, который Рудольфу подарили родственники. Как оказалось, причиной была авария на Чернобыльской АЭС, после которой запретили продавать определенные продукты (и грибы тоже) даже в нескольких тысячах километрах от места аварии. «Так вы и должны объяснять», – сказала им Жанин, видя, как Рудольф злится. «Мне нельзя», – ответил таможенник[191]. «Тогда это сделаю я». Таким же неприятным был и убогий, запущенный терминал, с вонючими писсуарами и мусором, который валялся на полу, «как в Калькутте», буркнул Рудольф. Но он подбодрился, когда увидел, что вместе с Любой его ждет ее брат, Леонид, объект его юношеской влюбленности.