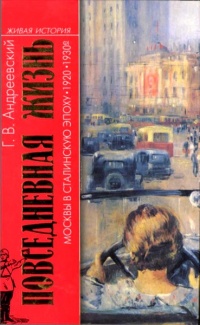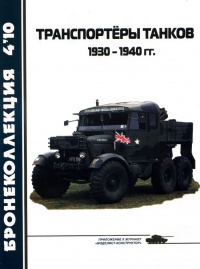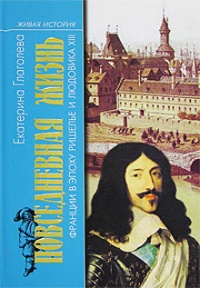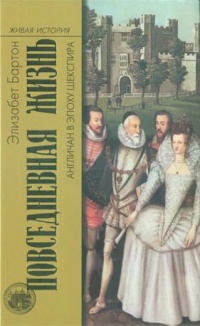Книга Повседневная жизнь Москвы в Сталинскую эпоху. 1930-1940 года - Георгий Андреевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Но я ничего такого не помню, – промямлил он.
– А помнить ничего и не надо, – ухмыльнулся как-то странно Орехов. – Удивляешь ты меня, Василий Сергеевич. Люди за советскую власть на смерть шли, а ты «не помню». Врага в наше время словом можно уничтожить. Понял? Так тебе, что же, для советской власти слова жалко? А враг будет тебя жалеть, будет спрашивать, помнишь ты чего или не помнишь? Так что же мы ждать будем, пока он советской власти в спину нож вонзит? В общем, Василий Сергеевич, мужик ты, я вижу, неглупый и сам должен все понимать. Иди и думай, и чтобы характеристики были к понедельнику готовы.
На том они тогда и расстались. Обидно было. Он ведь и так им все рассказал, и даже больше, а им все мало. Сказали бы сразу, что надо, а то: «Иди, подумай».
И еще Василий Сергеевич вспомнил, лежа в постели, как пытался он тогда открыть глаза работников НКВД на врагов советской власти из другого района, но те его и слушать не стали. Не морочь, Василий Сергеевич, нам голову, у нас своих дел хватает! Только и сказали. А какую контру он хотел им выдать, пальчики оближешь! Слесарь-водопроводчик Иванов с Кузнецкого Моста. Он помнил как сейчас, как в зоомагазине на Кузнецком Мосту какой-то мальчишка пристал к своей матери с вопросом: «Сколько лет живут черепахи?» А та возьми да скажи: «Триста». Тогда этот пьяный Иванов (его никто, кстати, и не спрашивал) на весь магазин брякнул: «Эта черепаха будет жить при коммунизме!» Подлец! Его не спросили. Надо было его, гада, сразу отвести куда следует. А теперь поздно. О нем и слышать никто не хочет. Что это, равнодушие или что похуже? Может быть, они сами вредители. А может быть, не прав был он, и ему следовало сразу пойти в другой райотдел НКВД и там рассказать о врагах советской власти, окопавшихся на их территории? Ну а если бы его по дороге убили или он под трамвай попал, значит, НКВД никогда не узнал бы об этих врагах?
Мысли Василия Сергеевича все больше и больше путались и неизвестно к чему бы привели, если бы в комнату не вошла Евгения Евгеньевна и не сказала равнодушным тоном: «Вставай, Вася, Кондакова арестовали».
По телу Лукашова пробежали мурашки. «Началось!» – подумал он и вдруг вспомнил, как однажды, в начале тридцатых, встретил на улице сына Кондакова и машинально спросил его: «Где отец?», на что тот, не задумываясь, выпалил: «На службе». «На какой службе, сегодня ж выходной», – возразил он. «На церковной», – крикнул, убегая, мальчишка. «Не помог тебе бог, – подумал Василий Сергеевич, – да и что он может супротив НКВД? Ничего».
С того дня в доме начались аресты. Арестовали Городецкого. Софья Борисовна, его жена, пошла в домоуправление к Лукашовой, чтобы попросить ее принимать квартплату не по ставке мужа, а по ее ставке, которая была, конечно, меньше. Евгения Евгеньевна была с ней на этот раз особенно любезна. Когда Городецкая сказала, что ее муж арестован, Евгения Евгеньевна аж вскрикнула: «Что? Городецкий арестован, не может быть, чтобы Исидор Борисович был арестован, за что?! Этого раба божьего! (Она, наверное, хотела сказать „эту овцу божью“.) Да! Боже! Кому, что он сделал плохого? Ну, уж если до него добрались, то погиб весь наш дом!»
Софью Борисовну, конечно, тронуло такое чуткое отношение, но она тут же вспомнила, как в день ареста мужа ей позвонила эта самая Лукашова и поинтересовалась, где он работает – там же, где работал, или на новом месте, – и она ответила: «Там же, конечно, где же еще?» Что-то в трогательном сочувствии Евгении Евгеньевны, в ее кружевном воротничке вокруг тощей шеи, делавшем ее похожей на бледную поганку, показалось Софье Борисовне подозрительным, и она спросила ее: «Евгения Евгеньевна, скажите честно, вы знали об аресте моего мужа?» Лукашова всплеснула руками и, перейдя на таинственный шепот, сказала: «Что вы, Симочка, если бы я что-нибудь знала, я бы вас обязательно предупредила заранее!» На этот раз Софья Борисовна ей чуть не поверила. Да и почему, собственно, было не поверить? У них с Лукашовой были неплохие отношения. Софья Борисовна работала зубным врачом в поликлинике имени Невзоровой на Большой Полянке, и Евгения Евгеньевна лечила у нее зубы. Иногда она обслуживала соседку вне очереди, и Лукашова должна была ей за это быть благодарна. Но что-то в самом тоне, в излишней любезности Лукашовой, смущало Городецкую.
А у Лукашовых в связи с арестами появились новые заботы. Их стали вызывать в райотдел НКВД на очные ставки с подследственными. На очную ставку с Кондаковым Лукашов пошел в синих очках для слепых. На Кондакова старался не смотреть. Тот был небрит, без галстука и вообще какой-то неопрятный. Василий Сергеевич изобличал Кондакова в контрреволюции. Увлекшись, заявил даже, что на кондаковской фабрике в Иваново-Вознесенске работало тридцать тысяч рабочих, забыв, что ранее, на допросе, говорил о трех тысячах. Эту промашку никто и не заметил. В конце концов, не все ли равно? Орехов был доволен. В коридоре встретил его, по плечу похлопал. Так, мол, держать. Не робей, Вася!
Но прошло немного времени, и у Лукашова, хоть и понимал он, что выполняет свой долг перед Родиной и партией, на душе заскребли кошки. У этого чертового Кондакова, думал он, трое сыновей. Правда, один совсем взрослый, в армии, а двое-то школьники. Что с ними будет? Как они без него останутся? Матери ведь нет, померла, теперь и отца не будет. А вдруг они за отца мстить будут советской власти? Ведь их тогда уничтожить надо, прямо сейчас. Но как узнать, стали они врагами или нет. Уничтожить на всякий случай? А может быть, они могут пользу принести народной власти? Во как все запутано! – думал Василий Сергеевич и не находил ответа.
Вскоре думать ему надоело. Он купил бутылку водки и по-пролетарски напился, а вечером пришел в НКВД к Орехову и пытался объяснить, что он не какой-нибудь подлец, что он человек честный, что за советскую власть он жизни не пожалеет, ни своей, ни чужой, но хочет все же у Кондакова прощения попросить, чтобы тот простил его, подлеца. Не для себя же он старался, а для дела, для пользы коммунизма. Орехов слушать его не стал, а два оперативника вытолкали Василия Сергеевича из райотдела на темную, сырую улицу, как говорится, взашей. Поделом тебе, деревенщина!
Октябрь уж наступил… В доме 4 по Покровскому бульвару арестовали сорок человек. До глубокой ночи многие жильцы не ложились спать. Жгли книги, тетради, дневники, письма, записки. Выглядывали в окна, прислушивались к лифту. Так проходили недели, месяцы. И вот в один прекрасный день узнают жильцы дома о том, что бывший главный чекист страны, Николай Иванович Ежов, оказывается, враг народа и что он арестован. Сначала верить не хотели, думали – провокация. Когда, наконец, поверили, многие обрадовались. Но не все. Некоторым работникам домоуправления и им сочувствующим радоваться что-то мешало. Лукашов, правда, к тому времени из домоуправления ушел, получил, так сказать, повышение: стал начальником столярной мастерской в Академии руководящих кадров коммунального хозяйства, что в Ветошном переулке. Потом к нему туда и Евгения Евгеньевна перебралась. Тем не менее все, что происходило в родном домоуправлении, их не переставало интересовать. К тому же там разговоры пошли нехорошие. Жена Городецкого, например, заявила швейцарихе Трушиной: «Мне известно, кто посадил моего мужа, теперь я их посажу». Трушина испугалась и шепнула Городецкой, что у НКВД везде уши. На это Городецкая подняла правую руку и раздраженно сказала: «А! Лучше бы у них везде были мозги!»