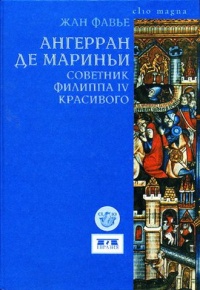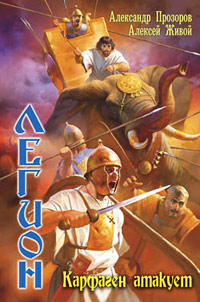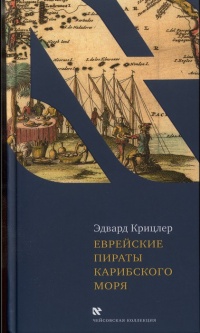Книга Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена - Татьяна Бобровникова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отправляясь в Массилию, Публий имел еще некую тайную цель. Дело в том, что он тогда прочел Пифея. Этот Пифей жил еще во времена Аристотеля, был астрономом, географом и математиком. Но, главное, он был путешественником. В маленьком кораблике он через Геракловы Столпы вышел в Атлантический океан, доплыл до Британии, обошел чуть не всю ее пешком, достиг ледяного океана и открыл какую-то новую землю, которую назвал Фула. Таким образом, Пифей, по его собственным словам, своими глазами видел всю северную часть Европы до пределов мира (Polyb., XXXIV, 5,2,9; Strabo, С 104).
Его книги, по-видимому, представляли собой смесь точных географических изысканий (он, например, вычислил широту Массилии) и красочных описаний ледяного севера. Вот, скажем, как он описывает места близ Фулы: там, говорит он, «нет более ни земли в собственном смысле, ни моря, ни воздуха, а некое вещество, сгустившееся из всех этих элементов, похожее на морское легкое. В нем, говорит Пифей, висит земля, море и все элементы, и это вещество является как бы частью целого: по нему невозможно ни пройти, ни проплыть на корабле» (Strabo, С 104).
Современные ученые во многом верят Пифею, считая его первым путешественником, дошедшим до северных земель. Но, то ли потому, что рассказы его казались невероятными южанам, то ли потому, что Пифей, как это свойственно путешественникам; любил уснащать свой рассказ небылицами, только древние отнеслись к нему скептически. Правда, не все: исключение составлял Эратосфен. Но уж Полибий во всяком случае ни на йоту не поверил Пифею. А вот на Публия книги Пифея произвели сильное впечатление, и он если и не принял всего безоговорочно, то очень заинтересовался. Можно себе представить, как скептический наставник пытался образумить своего слишком поэтического ученика. «Неправдоподобно и то уже, — говорил он, — чтобы частный человек, к тому же бедняк, прошел водой и сухим путем столь большие расстояния» (Polyb., XXXIV, 5, 7). То, чем он хвастается, «невероятно было бы для самого Гермеса» (ibid., XXXIV, 5,9). Но Публий продолжал в глубине души питать несбыточные надежды. Вдруг ему удастся найти следы маршрута Пифея, а может быть, его повторить?
Пифей был родом из Массилии. И вот Сципион задумал узнать там о нем подробнее. Но напрасно он, по словам Полибия, расспрашивал буквально всех массилиотов о Британии: никто не мог удовлетворить его любопытство. Сципион и тут не отчаялся. Он продолжал свои расспросы по всему Нарбону (Polyb., XXXIV, 10, 6). Увы! Как и предсказывал Полибий, все было тщетно, и юноше пришлось отказаться от своей мечты.
Вероятно, вскоре после возвращения из путешествия к Сципиону неожиданно явились послы из Македонии. Они просили, чтобы он немедленно поехал к ним и помог им уладить какие-то внутренние дела (Polyb., XXXV, 4,10–11). Нас может удивить, что македонцы вручили судьбы своего государства молодому, никому не известному человеку. Между тем ничего нет естественнее. По римскому обычаю, который Ф. Ф. Зелинский называет рыцарственным, полководец, покоривший Риму какую-нибудь область, становился ее патроном. Отныне он обязан был заботиться о том, чтобы те, кого он сделал подданными римского народа, ни в чем не терпели нужду. Эмилий Павел выполнял свои обязанности с такой строгой щепетильностью и с такой искренней добротой, что македонцы давно привыкли смотреть на него как на своего спасителя и защитника. Теперь же они надеялись, что обязанности отца возьмет на себя его сын.
Впрочем, я думаю, что дело тут не только в Эмилии Павле, но и в самом Сципионе. Недаром послы обратились именно к нему, а не к его старшему брату Фабию. У нас есть два разительных факта — в 151 году до н. э. македонцы приглашают к себе Сципиона, а четыре года спустя, в 147 году, греки присылают на помощь римлянам целый боевой флот, как они официально заявили, из дружбы к Сципиону! Каковы же причины такого необыкновенного расположения? Надо думать, эллины и македонцы видели от Публия очень много добра. Действительно. Плутарх сообщает, что Сципион оказывал грекам тысячи услуг из любви к Полибию, а потом еще и к Панетию Родосскому (Plut. Praecept. polit., p. 814 С). Мы знаем, как добр он был к бесправному заложнику Полибию. Но в Риме были сотни людей, оказавшихся в таком же положении. Многие из них были личными друзьями Полибия. Легко себе представить, что названый отец приводил к Публию всех этих греков и они находили неизменно ласковый прием в этом милом и гостеприимном доме. Он помогал, как мог, и ахейцам, и родоссцам. А в 150 году добился наконец для ахейских заложников разрешения вернуться на родину. И, конечно, эллины, возвращаясь домой, рассказывали о великодушии и удивительной сердечности этого римлянина.
Поездка в Македонию показалась Публию чрезвычайно заманчивой. Она была и лестной, и почетной и, главное, очень интересной. Ведь можно было вновь посетить Грецию, где он был всего один раз совсем мальчишкой. Итак, он стал собираться. А между тем в Риме произошли неожиданные события.
Началась война в Испании. То есть, собственно говоря, она, то тлея, то вспыхивая, горела не переставая последние 50 лет. Сейчас же она грозила разрастись в настоящий пожар. На сей раз мятеж подняли три испанских племени, среди которых первое место занимали беспокойные и всегда враждебные Риму араваки. Консулу Марцеллу, командовавшему в Иберии, как будто удалось их успокоить, и он, утомленный суровой и мучительной войной, предложил Риму заключить мир. Но это намерение привело в ужас все союзные Риму испанские племена. Они клялись и божились, что поведение араваков не более чем лукавство, что стоит Риму вывести из страны армию, как их сметут с лица земли, вырежут поголовно, и умоляли римлян продолжать боевые действия.
Квириты были в мучительных колебаниях. Мнения разделились — одни настаивали на мире, другие были за войну. Наконец победили последние. Решено было послать в Иберию новое большое войско. Среди тех, кто голосовал за войну, был и Публий Сципион (151 г. до н. э.) (Polyb., XXXV, 2–3,4,8).
Тем временем римляне были повергнуты сначала в смущение, затем в ужас. Дело в том, что Рим столкнулся с совершенно новым для себя видом войны — с партизанской борьбой в дикой горной стране. Полибий называет такую войну огненной. «Огненную войну начали римляне с кельтиберами, — говорит он, — так необычны были ход этой войны и непрерывность самих сражений. Действительно, в Элладе или в Азии ведомые войны кончаются, можно сказать, одной, редко двумя битвами… В войне с кельтиберами все было наоборот. Обыкновенно только ночь полагала конец битве… Зима не прерывала войны. Вообще, — заключает историк, — если кто хочет представить себе огненную войну, пускай вспомнит только войну с кельтиберами» (Polyb., XXXV, 1).
И вот в Рим стали приходить страшные известия об огромных потерях и трудностях войны (ibid., XXXV, 4,2). Все знали, что даже консул Марцелл бледнеет, говоря о войне в Испании, и вдруг всеми овладел панический ужас. Дошло до того, что молодежь стала уклоняться от набора. Чтобы оценить значение этого явления, надо вспомнить, что римляне были самым воинственным народом на свете, что мир казался им скучен, что храм Януса, который запирался, когда кончались войны, был закрыт только один раз за всю их историю — а именно при добром царе Нуме, наследовавшем Ромулу, что, когда объявлялся набор, на каждую должность приходила целая толпа людей, и вообще, они нуждались не в хлысте и шпорах, а в узде. И вот теперь эти самые римляне уклонялись от набора!