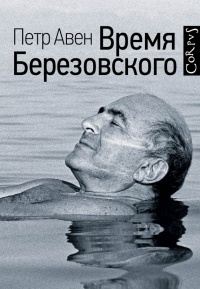Книга Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное зло - Валерий Подорога
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
б) С. Беккет. Нулевой пункт. В последнем разделе «Негативной диалектики» Адорно обращается к исследованию современных возможностей метафизики. Вот один из ее тупиков, или «нулевой пункт», в котором достигается крайне неустойчивое равновесие между отчаявшимся субъектом и современной цивилизацией «после Освенцима». Адорно пишет: «Но на нулевом пункте, в котором проза Беккета достигает своей сущности, подобно силам в бесконечно малых частицах физики, порождается второй мир образов, столь же грустных, сколь же и богатых, концентрат исторических опытов, которые в их открытости к решающему не допускают выдалбливания субъекта и реальности. Бедность и поврежденность такого мира есть отпечаток, негатив управляемого мира»[104]. Трагико-комическая клоунада литературы Беккета — жест Мюнхаузена как модель разума — только подтверждает невыразимость подобных состояний как в мысли, так и в действии. Настойчивый экзистенциальный рефрен: за объектом закрепляются исторические аномалии, угрозы, потери и разрушения («ужас», «смерть», «геноцид», «насилие» и т. п.), субъекту остается лишь отражать этот опыт в страданиях, томлении, боли, надежде на спасение.
В романной трилогии Беккета «Моллой умирает», «Мелон» и «Безымянный» персонажи-паралитики, инвалиды, искалеченные, считайте их кем угодно, но и у всех них одна проблема: как начать двигаться? Да и само повествование (если о таком вообще можно говорить) развертывается так, как если бы тот, кто рассказывает, находился в совершенно непостижимых отношениях с собственным телом. Да его ли это тело? Он утверждает, что «его»? Но на самом деле, т. е. при перечислении всех его «искалеченных» качеств, мы не сможем прийти к подобному выводу. Повествующая речь опирается в своем развитии на переживания телесной «неполноты», с которыми ежесекундно имеет дело персонаж. Рассказывание персонажа-паралитика не имеет отношения к телу, о котором он заботится и состоянием которого он так удручен. Беккет — картезианец, причем пародист, тонкий транслятор судьбы картезианского учения. Будущая форма человеческая будет разорвана по-картезиански, надвое: субъект будет лишен возможности управлять собственным телом, оно в собственности Другого. Движимое персонажем тело и тело им выговариваемое — между ними всегда разрыв, но его замечают только тогда, когда тело ограничивает свой поиск, обессиливает и окаменевает и больше не нуждается в речевом подкреплении: пауза, относимая к ничто и к господству пустого света мира, который ничего не освещает. Вот почему беккетовская сцена выглядит опустошенной и «пустой»: «Полнота мгновений оборачивается повторением, совпадая с ничто»[105]. Выживающий механически следует этому процессу повторений, минималистское и совершенно призрачное существование, где человеческое упразднено. Беккет вводит в литературу маску лагерного доходяги (персонажа изможденного, искалеченного, истощенного, опустошенного и т. п.), того, кто не выдержал столкновения с временем-после и оказался отброшенным в сейчас этого после. Драма длящейся катастрофы: они-то выжили, а не выживают, — но то, что было их миром, погибло (частично разрушены и парализованы их тело, мозг, язык, желания и воля); больше ничего не будет происходить, всё уже произошло. Как существовать, если нет времени, в котором еще может что-то случиться? Ведь Бог не пришел не потому, что он мертв, а потому, что всё закончилось и ему больше не нужно приходить…
Чем же собственно отличается персонаж Беккета от лагерного мусульманина? — Почти ничем[106]. Разве только своей невероятной способностью к рефлексии, вот она и стала у Адорно предметом постоянного аналитического разбора. Как замечает Адорно, персонаж Беккета похож на раздавленную муху, еще живую, шевелится, но уже мертвая… Персонаж силится собрать себя, но это не удается, более того, это самособирание приводит к новому распаду, еще, может быть, более разрушительному. Нет молчания, нет героя, способного управлять собственным возможным, нет тела, достаточно собранного для того, чтобы стать образцом для других тел и вещей.
Жизненное пространство дано через собственное ничтожение, — это лишенное атмосферы, повисшее в сероватой мгле, мировое ничто; оно отражает себя в ритме паузных знаков, игре которых так привержен театр Беккета. Единая основа паузы — это отсутствие чего-либо, — вот что на самом деле стоит за тем театральным пространством, которое вовсе и не пространство, не сцена в привычном смысле. Пауза ничем не заполняется, у нее нет даже «своего» времени, она без памяти, она не имеет ни темпоральной формы, ни содержания. Персонажи Беккета влачат «жалкое существование», они не живут, да и не персонажи они. Заунывные картины «серого, нейтрального» бытия, беспросветная и почти немая жизнь неких существ, чья неполноценность и ущербность (включая физическую) является абсолютной нормой. Всё это картины с выжившими после «мировой» катастрофы свидетелями того, чего больше нет, и о чем они даже не могут рассказать в силу личного беспамятства. Беккетовские «доходяги» — не странники, не путешественники, не опытные мастера аскезы; их желание продолжать жить — абсурдно, но оно может восхищать. Правда, и у Беккета есть некая литературность, слегка прикрывающая этот абсурд положений. То, что было невозможно, но состоялось — и потому абсурдное занимает место реального. Так, подлинный «текст» литературы Беккета заключен не в репликах или диалогах, а в долготе пауз, прерывающих движение и речь героев, удерживая тишину мира «после катастрофы».
Варлам Шаламов и время ГУЛАГа
[Опыт отрицательной антропологии]
Воскрешение лиственницы
Безнаказанная расправа над миллионами людей потому-то и удалась, что это были невинные люди.
Это были мученики, а не герои.
«Деревья на Севере умирают лежа, как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзалось и укреплялось там тончайшими волосками щупальце — корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха — ярко-зеленом и ярко-розовом.