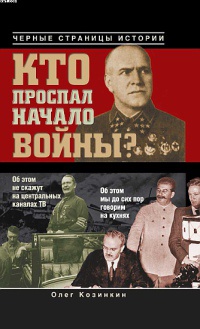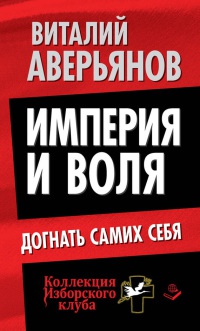Книга Через годы и расстояния. История одной семьи - Олег Трояновский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Приехав в Москву в отпуск летом 1937 года, мы окунулись в атмосферу тревоги, подозрительности и какой-то непредсказуемости. По Москве ходила мрачная шутка: на вопрос: «Как живете?» ответ: «Как в автобусе: половина сидит, половина трясется». Это был самый разгар репрессий, которые особенно больно отразились на том круге людей, с которыми общалась наша семья. Некоторые, если не большинство наших знакомых к тому времени уже исчезли, другие не скрывали опасений за свою судьбу.
Было заметно, что чувства замешательства и настороженности проникли и в высшие сферы политики. Наш первый визит по прибытии в Москву был к Полине Семеновне Жемчужиной. Мы навестили ее в здании нынешнего ГУМа, где находился парфюмерный трест ТЭЖЭ, которым она руководила. После своей поездки в США в 1936 году Полина Семеновна прониклась какой-то особой симпатией к нашей семье. «Что же это творится, что же это творится! – восклицала она. – Вот теперь и Межлаука арестовали. Кто бы мог подумать!» (Межлаук был председателем Госплана СССР.) И хотя она вроде бы прямо не подвергала сомнению закономерность арестов, все же в этих восклицаниях сквозили определенные сомнения. Впоследствии была арестована и сослана сама Полина Семеновна, ее освободила только смерть Сталина.
Жемчужина пригласила нас поехать послушать генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, который выступал где-то неподалеку с докладом перед общественностью. Речь Вышинского была полна победных реляций и гневного осуждения «врагов народа». Когда мы вернулись домой, отец спросил, обратил ли я внимание на высказывание Вышинского о том, что карательные органы обезвредили не только тех, кто совершил преступления, но и тех, кто мог бы их совершить. И с усмешкой добавил, что это нечто новое в юриспруденции.
В Москве мы побывали в нескольких домах высокопоставленных деятелей. Невольно обращали на себя внимание определенные нюансы в их высказываниях по поводу происходящих репрессий. Из всего, что пришлось слышать, наиболее непримиримо прозвучали слова В. М. Молотова, когда мы были у него на даче. В ходе беседы отец, который уже тогда хотел уйти с поста посла в Вашингтоне, упомянул о бывшем председателе Амторга Богданове в качестве своего возможного преемника. В ответ Молотов тоном, не терпящим возражений, заявил, что Богданов совершенно разложившийся тип и что давно пора разделаться со всей этой публикой. После такой реплики дальнейший разговор на эту тему становился бессмысленным. Позднее, во время моей работы в МИДе, мне не раз приходилось слышать Молотова, переходящего на этот жесткий тон, когда он хотел выразить свое недовольство поведением того или иного сотрудника. В этих случаях его голос приобретал какой-то металлический, чрезвычайно неприятный, отталкивающий оттенок.
Несколько раз мы побывали в гостях у Микоянов. Анастас Иванович и его супруга Ашхен Лазаревна незадолго до этого посетили США, где провели несколько недель, путешествуя по стране. Анастас Иванович по заданию Сталина знакомился с американскими предприятиями пищевой промышленности. Кое-что он потом внедрил в нашей стране, главным образом в Москве: появилось фабричное мороженое, маленькие котлетки, получившие в народе шутливое название «микоянчики», сосиски в булках по типу американских хот-догов. К сожалению, многое из этого потом ушло в прошлое.
Микоян был в хороших отношениях с отцом с давних времен, начиная с 20-х годов. В тех случаях, когда мы бывали в гостях у Микоянов, Анастас Иванович воздерживался от каких-либо комментариев по поводу бушевавшей в стране арестной стихии. Зато с пафосом, в духе времени превозносил коллективизацию как победу над самым многочисленным эксплуататорским классом – кулачеством. Приходилось слышать много лестных слов о только что опубликованном «Кратком курсе истории ВКП(б)» и особенно о четвертой, теоретической главе, написанной, как подчеркивалось, лично товарищем Сталиным. Кстати говоря, когда садились за стол во всех этих высокопоставленных домах, существовал ритуал – первый тост всегда провозглашался за товарища Сталина.
Несколько иной дух витал в доме Литвинова, в то время он еще оставался народным комиссаром иностранных дел. Там даже не пытались скрывать своего скептического, а то и саркастического отношения к царившему в стране беспределу. Когда отец упомянул о ком-то из общих знакомых, кого окрестили шпионом, Максим Максимович заметил: «А что же тут удивляться, теперь все шпионы, а если кто-то еще не шпион, то в любой день может им стать».
Время от времени, хотя все реже и реже, к нам домой наведывались сослуживцы отца по Госторгу, Токио или Вашингтону. Запомнился разговор отца с пришедшим к нам домой В. Н. Кочетовым – он был торговым представителем в Японии в бытность моего отца послом. Кочетов рассказал, что почти всех торгпредов вызвали в Москву, и практически каждый день кого-то из них не досчитывались. «Впрочем, – с некоторой гордостью сказал Кочетов, – я чувствую себя довольно уверенно. Дело в том, что, когда я работал в Германии, туда приезжал Николай Иванович Ежов, и между нами установились хорошие отношения. Пару дней назад я решил посетить Ежова и поговорить с ним. Он встретил меня очень дружелюбно, мы поговорили о старых временах, и в заключение он сказал, что мне, конечно, нечего беспокоиться, я могу спокойно работать». Не прошло и двух-трех дней, как мы узнали об аресте Кочетова.
Я знаю два случая, когда отец пытался заступиться за известных ему людей. Один из них был председатель Амторга Боев. Отец ходил пару раз на партийные собрания, где рассматривалось дело Боева, и выступал в его защиту. В каких грехах обвиняли Боева, я не знаю, но так или иначе дело кончилось арестом. Другой случай был связан с довольно видным инженером-нефтяником, мужем приятельницы моей матери, который был арестован по обвинению во вредительстве. Отец говорил по этому поводу с кем-то из Комиссии партийного контроля и через некоторое время получил ответ, что человек, о котором он хлопочет, сознался не только в конкретных случаях вредительства, но и в заговоре против советской власти. Причем когда на допросе его спросили, как мог он договариваться с представителями иностранной державы о передаче ей части советской территории, он будто бы заявил, что не видит в этом ничего особенного – ведь передали же большевики немцам значительную часть российской земли по Брест-Литовскому договору.
Видимо, надо было обладать известной долей наивности или даже простодушия, чтобы полагать, что в обстановке 30-х годов такого рода хлопоты могли кому-нибудь помочь. Результат был как раз противоположный – не облегчение участи арестованного, а стремление следователей любым путем выжать из подследственного дополнительные, еще более серьезные признания. Я не говорю уже о том, какому риску подвергал себя сам ходатай, особенно если в прошлом он, как отец, был меньшевиком.
Особенно болезненно наша семья восприняла арест командующего Черноморским флотом, флагмана флота Ивана Кузьмича Кожанова, героя Гражданской войны, у него был орден Красного Знамени. Иван Кузьмич, я его уже упоминал, был военно-морским атташе в Японии, и наши семьи подружились. Эта дружба сохранилась и после возвращения из Токио. К тому же у Кожановых не было детей, и они относились ко мне с особой теплотой. Приезжая в Москву, они обычно останавливались у нас на квартире. А в 1931 году по приглашению Ивана Кузьмича мы с отцом побывали на флагманском корабле Черноморского флота – линкоре «Парижская коммуна», присутствовали на маневрах. Это произвело на меня, одиннадцатилетнего мальчика, большое впечатление, хотя и не потянуло на морскую службу, на что надеялся Иван Кузьмич. Отец не раз говорил, что он считает Кожанова политически наиболее подготовленным работником из всех советских военных, работавших в то время в Японии.