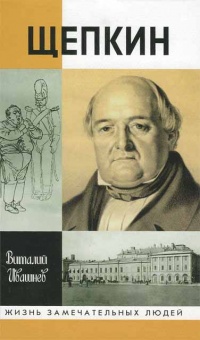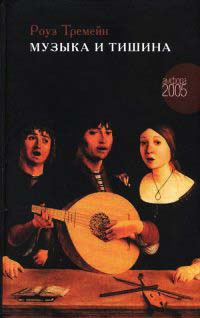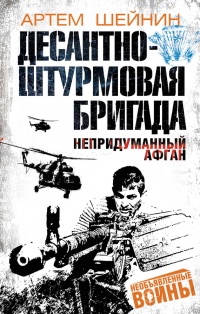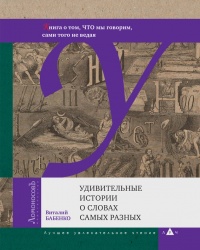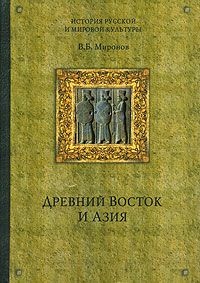Книга О Рихтере его словами - Валентина Чемберджи
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Нейгауз писал о вас лучше всех.
– Ну, это совсем особенная тема, но я скажу вам, что про меня очень хорошо писал Григорий Михайлович Коган. Знаете, что он про меня написал?.. Но это мне даже неудобно говорить… Я такого не ожидал. Он ведь был очень строгий и критиковал меня, и все говорил, что я иногда делаю слишком большие контрасты, уже на грани того, что нельзя делать, но это была какая-то дата, и кончил он вдруг так… неловко даже повторять…
– Я знаю, он назвал вас одним из трех «Р»: Рубинштейн, Рахманинов, Рихтер…
– Ну, знаете ли, это уже слишком… Это уж такая похвала, что дальше идти некуда. Нейгауз никогда так не говорил. Даже неудобно вспоминать. И еще один человек писал очень хорошо, Давид Абрамович Рабинович[36], очень серьезный и хороший музыкант…
Приведу здесь и письмо Генриха Густавовича Нейгауза Рихтеру (оно оказалось в «архиве Елены Сергеевны Булгаковой», о котором расскажу позже).
19 5/1 64
Славочка, дорогой! После вечера у вас – Пяти сонат – не могу отделаться от мысли, что все мои «высказывания» (печатные и непечатные) о Тебе – страшный вздор – не то! Прости! Мне следовало 50 лет писать, «набивать руку», чтобы написать о Тебе хорошо и верно. Целую.
Твой, Твой, Твой
Г. Нейгауз
– Святослав Теофилович! Я хотела спросить у вас о «слишком больших» контрастах. Разве у Бетховена они не должны быть именно очень сильными?
– Ну, конечно, сильные! А у Шуберта разве нет? Он пишет sforzando fortissimo, потом сразу три piano. И когда я играл в Зальцбурге Сонату Шуберта, какой-то критик написал, знаете что? «После первого же слишком сильного акцента (хорошенький акцент, когда это fortissimo!) Шуберт покинул зал». Эта усредненная игра на mezzo forte противоречит не только Бетховену и Шуберту, но и всей музыке. Во всей музыке есть такое. Даже у Шопена есть. Конечно, forte должно быть мощное и красивое, а не стук, и звук должен быть слышен, если это piano; но forte может быть сколь угодно сильное, потому что может быть три forte и четыре forte. Бетховен – самый резкий композитор… Ну, конечно, такие сильные контрасты, скажем, у Моцарта невозможны, у Гайдна – уже скорее, у Баха же нет особенных контрастов, у него все – такими террасами; мне кажется, у Баха все какое-то другое… Pianissimo – так уж извольте всю пьесу играть pianissimo.
– А как вы представляете себе es-moll'ную прелюдию Баха из первого тома Хорошо темперированного клавира?
– Очень строго. Строго и важно. И в общем, в какой-то степени печально. Печально и очень строго. Главное, держать все внутри, никуда не сдвинуться и никакого rubato. Мне кажется, что Фуга еще лучше прелюдии. В своей записи я почему-то случайно сыграл ее всю на pp. Ну, можно и так. Можно играть и forte, и piano, но только надо тогда всю так играть. Когда я был в Монреале, я играл там Семнадцатую сонату Бетховена. Все играют ее очень быстро, а там написано Largo, очень медленно; я довольно удачно сыграл, и критика там была просто «замечательная»: «Очень странное впечатление от Рихтера: мы думали, что это такой опытный пианист, который не волнуется и все прочее, а он играл первую часть так, что мы все боялись, что он сейчас остановится…» Понимаете, это все те неожиданности, которые у Бетховена написаны и которые должны все время немножко действовать вам на нервы, а они не привыкли, они решили, что я от волнения потерял темп, а там темп все время ломается… Еще про меня пишут: «Почему он так играет Дебюсси? Ничего почти не слышно». «Лунный свет» знаете? Он начинается на два piano, а потом вторая половина идет на три piano… И вот вам типичная Франция. Я играл там Дебюсси с большим успехом. Через три года: «Ну, конечно, Дебюсси – это не его сфера», – забыли!
За разговорами прошел обед. Рихтер снова отправился заниматься. О болезни уже как будто забыл. В отведенный мне следующий час я стала расспрашивать Святослава Теофиловича о его поездке на БАМ.
– Очень трудные для человека климатические условия. Тридцатого октября был концерт в Ургале. Ехали в Ургал через тайгу. Она похожа на поле битвы, только в природе. Встретил какой-то человек. Я пошел в гостиницу. Лифта нет. Пятый этаж. Натоплено, как в бане. Приготовили роскошный обед. Все люди были очень симпатичные. Пошел в клуб, там и простудился, потому что занимался в таком натопленном зале, что пришлось открыть двери настежь, оттуда очень сильно дуло, был сильный мороз, а в зале невозможно продохнуть из-за духоты. Дети глазели на меня, держа пальцы во рту. Им стало жарко, они начали раздеваться, потом их как ветром сдуло.
Два года тому назад там купили рояль, он стоял в холодном помещении, начальство не разрешало смотреть на него, и если бы не какая-то сердобольная женщина, никто и не вспомнил бы о нем.
Люди очень внимательные, готовы расшибиться в лепешку, но не понимают самого простого, – не знают, где начало и где конец, – не знают музыку.
Новый Ургал – это новые дома, но их не больше двадцати. Довольно добротные, но вокруг пустыня. Причем построили как будто не без любви, с орнаментом из цветного кирпича, пятиэтажные, но чувствуется, что на большее просто пороху не хватило, и все это бросили. Тем не менее народу в зале было полно. Встречали удивительно тепло, аплодировали горячо, требовали, чтобы я играл еще и еще. Играл в доме культуры «Украина» концерт из двух отделений: в первом две сонаты Гайдна, B-dur и Es-dur. Во втором – Шумана и Брамса; и в общем, хотя это был сарай, и дуло, и все было плохо, но лица были приветливые, счастливые, и две девушки попросили разрешения и меня поцеловали. Но, конечно, там я уже простудился.
Играть на БАМе… Даже если в пять человек проник интерес послушать, уже хорошо. Ощущение, что из филармонии туда никто не ездит. Публика страшноватая. Самодеятельность, – на этом они воспитаны. Ощущение, что эта публика ничего такого не слыхала.
Тридцать первого приехали в Чегдомын за двадцать минут до концерта. В зале сидела какая-то «масса», которая подавила и вытеснила музыкальную школу, – они ждали потом на улице. Тоже не знают, где начало и конец. Но сидели очень тихо. Ведущая, очень уверенная в себе, забыла тем не менее фамилию Брамса. А почему? Люди совершенно не думают, не умеют сосредоточиться. Это ведь не только у нас, но и, скажем, во Франции. Уже лет пятнадцать публика не интересуется, что сыграно «на бис». Один раз, правда, меня спросили, но это было после того, как я сыграл «Hammerklavier»[37], а потом «на бис» повторил финал, и вот тогда меня спросили. От равнодушия. Бывает, в артистической кто-то что-то спрашивает, я начинаю объяснять, а ему уже неинтересно. Равнодушие.
На БАМе решили, что мне лучше к ним не ехать, – нет инструментов, залов и т. д. Но начальство даже не удосужилось мне это передать. Поэтому они были очень сконфужены. Когда же я приехал, все было на высоте. Народу и в Чегдомыне было полно.