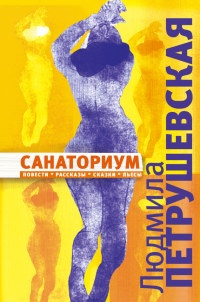Книга Лабиринт Один. Ворованный воздух - Виктор Ерофеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Именно потому Набоков возвысился не только в эмигрантской литературе, но возвысился и над эмигрантской литературой, что тема изгнанничества получила в его творчестве универсальный и экзистенциальный характер.
Презрение «я» к тому неподлинному миру, в который это «я» выгнано, по сути дела, редуцировало мир, набор аляповатых бутафорских декораций. Нарастающее из романа в роман ощущение бутафорности мира связывает Набокова с символистским романом (А.Белый, Ф.Сологуб), но Набоков одновременно и разрывает с ним, так как метафизический уровень переосмыслен им в категориях «земного рая», то есть предельной, но здешней реальности.
Призрачность мира, сгущаясь в «Приглашении на казнь», обретает наконец такую тоталитарную реальность, с которой «непрозрачный» герой не может совладать, становясь ее физической жертвой, но сохраняя неделимость своего «я» в организованной набоковской этикой системе сопротивления.
И хотя в противоборстве с тоталитарной реальностью «я» теряет самое дорогое — дар слова, впадает в косноязычие, — именно на пределе возможного возникает онтологическое прозрение.
Метароман, таким образом, завершается неожиданным взрывом системы его же ценностей, и этот взрыв разворачивает Набокова к русской литературной традиции.
Цинциннат Ц. — не творец, в отличие от Годунова-Чердынцева, но безвестный учитель дефективных детей — эта ипостась набоковского героя имеет кардинальное значение, и не будь «Приглашения на казнь», метароман потерял бы важное измерение в поисках потерянного рая. Поиски «мы», в сторону которых устремляется обезглавленный Цинциннат, — поиски «существ, подобных ему».
1986 год
Подавляющее большинство литературных текстов, написанных в разных странах, в разных жанрах, в разные эпохи, обречено на забвение. Историю литературы, однако, представляет не это огромное кладбище, а небольшое количество произведений, которые оказались жизнеспособными, смогли пережить свое время. Каковы принципы естественного литературного отбора?
Почти всегда, за редчайшими исключениями, мы оказываемся беспомощными в оценке будущей жизни произведения. Кто в 20—30-е годы, при всем том, что существовало понятие «гамбургского счета» в литературе, мог определить посмертную судьбу платоновских рассказов, поставить Платонова выше таких популярных в ту пору и безусловно талантливых писателей, как Бабель и Пильняк? Кто мог предвидеть еще полвека назад, что в 70-е годы будут раскопаны и перепечатаны большими тиражами самые «мелкие», затерявшиеся в газетных подвалах фельетоны М.Булгакова? Приходится констатировать, что критика, при всем своем современном научном обеспечении, продолжает быть крепкой именно задним умом, что она скорее идет за оценкой, вынесенной временем, чем руководствуется своими специфическими критериями. Гораздо лучше обстоит дело с ретроспективным анализом, доказывающим гениальность того или иного произведения, выдержавшего испытание временем, то есть доказательством по сути дела уже доказанного.
Литературно-критическая мысль, возможно, и не создана для каких-либо достоверных пророчеств. Возможно, в том и заключается таинство литературы, что она открыта прошлому, а не будущему, не прогнозируется и что сам писатель всегда находится в сомнении относительно значимости своего творчества для последующих поколений. Связанная инерцией эстетических представлений, литературно-критическая мысль далеко не всегда может выработать верный подход к современным произведениям. Это, видимо, объясняется тем, что действительно новое произведение искусства смещает устоявшиеся эстетические представления радикальным образом, причем не в линейной плоскости, а создавая новое эстетическое измерение.
Рассматривая процесс забвения литературного произведения, мы наблюдаем его превращение из литературного факта в факт исторического свидетельства, чаще всего ограниченного значения. Этот предел разложения произведения можно считать его «историческим» скелетом.
Есть принципиальная разница между справедливо и несправедливо забытыми произведениями. Первые как раз выражают собой идею линейной преемственности, подражательной прилежности, идею примитивного представления об эстетическом развитии. Нет никакой возможности, да и не нужно стремиться сократить непроизвольный поток подобной литературы, хотя она часто развращает читательский вкус и наносит вред эстетическим представлениям эпохи, порою настолько значительный, что диву даешься: как еще может сохраняться, откуда берется та надвременная оценка, которая в конечном счете разоблачит и развенчает посредственность.
Несправедливо забытое произведение, может быть, только потому и следует считать несправедливо забытым, что оно в свое время выпало из инерционных представлений нормативной эстетики. Его возрождение связано, как правило, с переоценкой ценностей, с коренной ломкой эстетических представлений. Возрождение или, можно сказать, воскрешение забытого произведения зачастую становится функциональным, то есть текст вызывается из небытия как участник современного спора, как аргумент для подтверждения идей нового литературного направления. Так, романтики, разрывая с нормативной эстетикой классицизма, открыли для себя Шекспира. Неканоничность, сточки зрения классицизма, Шекспира или (если взять другой пример) подозрительная, с той же точки зрения, «незавершенность», фрагментарность Паскаля — все это оказывается не недостатком, а достоинством в новой аксиологии.
Несправедливо забытое произведение либо отчуждено сознательно своим временем, торжественно предано проклятию и похоронено с хулой, как это случилось с Садом, либо же забыто невольно, бессознательно, по случайности, ошибке, стечению неблагоприятных обстоятельств. Если произведение забыто сознательно, его воскрешение зачастую содержит элемент литературного скандала, борьбы страстей.
При воскрешении забытого произведения объективность суждений часто нарушается. Недавнему «покойнику» приписываются качества, которыми он не обладает, он обретает значение современника, коим не является. Нередко происходит искажение исторической перспективы, и в таком случае требуется достаточно много времени, чтобы найти вновь открытому произведению подлинное место в истории литературы. Случай с романом М.Булгакова «Мастер и Маргарита» дает достаточно материала для понимания такого рода эксцессов. Быть может, это не был типичный случай открытия текста, поскольку он не был забыт, а скорее просто не существовал в читательском сознании, однако если говорить в целом о прозе Булгакова, то она была в основном забыта. Когда роман извлекается через много лет после его написания на яркий свет посмертной славы, любое отрицательное мнение о нем ставит высказавшего его критика в ложное положение. Эйфория возрождения произведения не способствует адекватной оценке.
Однако для конкретного анализа забытого произведения возьмем другой пример, который кажется убедительным по ряду соображений. Во-первых, это действительно прочно забытое произведение забытого автора, имя которого еще вчера было известно лишь узкому кругу специалистов по советской литературе довоенного периода. Во-вторых, это произведение обладает серьезными литературными достоинствами, так что это пример несправедливо забытого текста. В-третьих, оно написано сравнительно недавно, и потому литературный контекст не нуждается в дополнительном анализе, который способен увести нас далеко в сторону. Наконец, это произведение переиздано, так что его анализ, возможно, не пропадет даром. Речь идет о центральном произведении в творчестве русского советского писателя Леонида Ивановича Добычина (1896–1936), романе «Город Эн», опубликованном в издательстве «Советский писатель» в 1935 году.