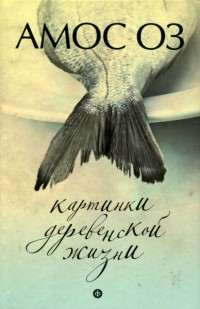Книга Повесть о любви и тьме - Амос Оз
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отсюда, из рабочего кабинета, из трех узких высоких окон с темными шторами открывался вид на печальный, немного запущенный сад, прямо за оградой которого простирались безжизненные пространства Иудейской пустыни, ее скалистые склоны, которые, постепенно снижаясь, волна за волной катились к Мертвому морю. Перешептывающиеся друг с другом высокие кипарисы и сосны окружали сад, между деревьями там и сям цвели олеандры, неухоженные розовые кусты, зеленели одичавшие травы, запорошенные пылью деревца туи, там были серые гравиевые дорожки, садовый стол, сработанный из дерева, загнивающего под обильными зимними дождями, и еще один старый куст — наполовину засохшая, изогнувшаяся китайская сирень. Даже летом, даже в дни, когда налетает из пустыни знойный ветер — хамсин, было что-то зимне-русское, что- то удручающее в этом саде. Бездетные дядя Иосеф и тетя Ципора подкармливали в нем окрестных котов оставшейся на кухне едой, но никогда не видел я, чтобы они гуляли по саду, или сидели на одной из двух его выцветших скамеек вечерами, когда ветерок приносит прохладу.
Только я бродил по этому саду в одиночестве по субботам, после обеда, сбежав от скуки ученейших бесед, которые велись в гостиной. Я охотился на тигров в зарослях кустов, вел раскопки среди камней, надеясь найти спрятанные древние рукописи, и мечтал о том, как будут захвачены и падут под натиском моих боевых колонн выжженные холмы за забором.
Все четыре высокие и широкие стены библиотеки были от края и до края заставлены книжными богатствами. Книги стояли, плотно прижавшись друг к другу, но расставлены были в образцовом порядке — ряд за рядом выстраивались тома в синих, серых, зеленых переплетах, с золотым и серебряным тиснением. В некоторых местах из-за тесноты два ряда книг — один за спиной другого — вынуждены были ютиться на одной, до предела перегруженной полке. И были там блоки готических букв, замысловатых, как башенки замков, и были там священные еврейские тексты, издания Гемары и Мишны, книги религиозных законов иудаизма, молитвенники, собрания мидрашей, сказаний и притч. И были там стеллаж ивритской Испании, и стеллаж Италии, и целый раздел, где были собраны книги из Берлина и других мест, где процветало движение Хаскала. Огромные пространства были отданы Израилю, достижениям лучших его умов и его истории. История древнего Востока, Греции, Рима, история Средних веков, история раннего христианства и христианства новейших времен… Всевозможнейшие исследования в области языческих культур, религий Азии, книги мудрецов ислама… Целая стена посвящена истории еврейского народа — от древности до наших дней… И были обширные славянские области, казавшиеся мне туманными, и территории греческие, и серо-коричневые регионы скоросшивателей и картонных папок, заполненных авторскими оттисками и рукописями. Даже крошечного пространства на стенах не осталось свободным, даже на полу примостились десятки книг, некоторые из них открыты, лежат обложками кверху, иные — со множеством маленьких закладок, а некоторые сгрудились там и сям, как перепуганные стада овечек, на двух-трех стульях с высокими спинками, предназначенных для гостей, часть книг навалена на подоконники. Черная лестница вела к верхним полкам, упиравшимся в высокий потолок. Эту лестницу с помощью металлических рельсов можно было передвигать по всему пространству, вдоль и поперек, и порой я даже получал разрешение покатать с превеликой осторожностью эту лестницу на ее резиновых колесиках из конца в конец, от одной секции с книгами до другой — по всему пространству библиотеки.
Не было здесь ни единой картины, ни цветочной вазы, ни какого-нибудь уголка с изящными безделушками. Только книги. Книги и тишина, заполнявшая всю комнату, и чудесный, насыщенный запах — кожаных переплетов, пожелтевших листов, застаревшего переплетного клея, легкой сырости, странно напоминавшей о морских водорослях, — запах мудрости, учености, тайн и пыли.
В центре библиотеки, словно огромный темный эсминец, который бросил якорь посреди залива, окаймленного горами, стоял рабочий стол профессора Клаузнера. Стол был загроможден высоченными пирамидами из томов энциклопедий и словарей, стопками тетрадей и блокнотов, ручками всевозможных цветов и калибров — синими, черными, красными, карандашами, стиральными резинками, чернильницами, запасами скрепок, булавок, листами, брошюрами, записками, карточками, коричневыми и белыми конвертами, а также конвертами с разноцветными марками, бывшими предметом моего вожделения. Раскрытые тома на иностранных языках лежали поверх раскрытых книг на иврите, и среди них были рассеяны листки, вырванные из блокнота, исписанные дядиным почерком, похожим на сплетения паутины, в которой словно мертвые раздувшиеся мухи запутались многочисленные зачеркивания и исправления. Повсюду разбросаны маленькие записочки. А поверх всего, словно паря над этим хаосом, возлежат на стопке книг дядины очки в золотой оправе. Вторые очки, в черной оправе, лежат на вершине другого книжного холма, на вспомогательной маленькой тележке, примостившейся рядом с дядиным стулом, а третьи, подглядывают за тобой, устроившись среди страниц открытого журнала на небольшой тумбочке рядом с темной кушеткой.
На этой кушетке, свернувшись, как плод в материнском чреве, укрытый по самые плечи легким вязаным шерстяным одеялом, которое своими красно-зелеными клетками напоминало юбку шотландского стрелка, лежал сам дядя Иосеф. Без очков лицо его выглядело детским, был он худым и щуплым, словно мальчик, в его коричневых миндалевидных глазах таились и веселье, и грусть. Он слабо помахал нам своей бледной до прозрачности рукой, улыбнулся (бледно-розовые губы мелькнули сквозь седые усы над аккуратной белой бородкой) и произнес нечто вроде:
— Заходите, пожалуйста, мои дорогие, заходите, заходите…
(На самом деле, мы уже зашли, уже стояли перед ним, но все еще были рядом с дверью и стояли, тесно прижавшись друг к другу, — мои мама, папа и я, — словно маленькое стадо, заблудившееся на чужом выгоне).
— Уж простите меня, пожалуйста, что я не поднялся вам навстречу, пожалуйста, не обращайте на меня внимания, вот уже две ночи и три дня я не покидаю рабочего места, глаз не сомкнул, спросите, будьте добры, госпожу Клаузнер, и она засвидетельствует, что я не отлучаюсь ни для еды, ни для сна, ни даже для того, чтобы заглянуть в газеты, — пока не завершу эту статью… Выйдя в свет, эта статья наделает у нас много шума, да и не только у нас. Ведь весь культурный мир, затаив дыхание, следит за этой дискуссией, и на это раз, мне кажется, удалось заткнуть рты мракобесам всех мастей. На сей раз им ничего не останется, как сказать «аминь», либо, по крайней мере, признать, что их доводы опровергнуты, что, как говорят наши мудрецы, и ослы их мертвы и поля их смыты…
А вы, дорогая моя Фаня? Дорогой Леня? И маленький Амос, такой симпатичный? Как поживаете? Что нового в вашем мире? Читали ли вы уже дорогому Амосу некоторые отрывки из книги «Когда нация борется за свою свободу»? Мне кажется, дорогие мои, что из всего написанного мною до сего дня не создал я более достойной книги, чем эта. Она могла бы послужить пищей духовной для нежной души столь дорогого мне Амоса, да и для душ всей нашей замечательной еврейской молодежи. С ней могут сравниться по силе своего влияния разве что рассеянные на страницах моей «Истории Второго Храма» описания героических подвигов и восстаний. А совсем недавно написал мне один из моих читателей, как раз не еврей, а просвещенный швейцарский священник, что, изучая главы, описывающие борьбу евреев против гнета языческого эллинизма, в моих книгах «История Второго Храма», «Иисус Назорей» и «От Иисуса до Павла», он, этот читатель, впервые в жизни уяснил со всей четкостью, в какой степени Иисус был евреем, насколько далек был он от всего греческого и римского. Впрочем, столь же далек Иисус был от раввинов, придерживающихся заскорузлых законов того времени, которые были не лучше самой темной ортодоксии наших дней.