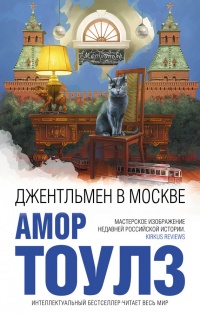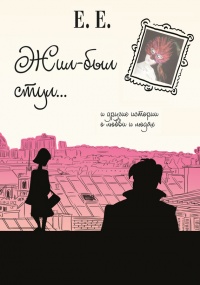Книга Минеральный джаз - Заза Бурчуладзе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ну так после всего этого, когда последует на то и ваша твердая воля, дабы не нарушить вам душевного благолепия и покоя, не начать ли нам, братие, по былинам старого времени, а не по замышлению… одним словом, не сотворить ли прямо сейчас, сию минуту славословие-песнь нашему мишке и не спеть ли ее от всей глубины души? Так вы опять принимаетесь за кляузы? Неужто так важно вам, тамбовскому вознесете вы величальную мишке или творцу-вседержителю? Не сама разве песня для вас самое главное? Ну так и пойте ее! Покамест хоть один из наших драгоценных читателей будет петь о сверхчеловеке ли в эполетах и позументах, о тренькаче ли с гитарой или о тамбовском медведе, то и в Багдаде все будет спокойно. Не принимайтесь уверять меня, господа, что разобрались и усвоили все, о чем велась у нас с вами беседа. Сколько ни вникать в эту головоломку, ни вслушиваться в эти раскаты громов, как ни вгрызаться и ни впиваться во всякую из строк от доски до доски повествования, все равно не уловить, где начало ему, а где конец. Однако же не исполняйтесь из-за этого гнева, в этом удалом, задушевном тексте не только вам, а и проницательнейшему оку самого черта не развернуться и не вывернуться. И когда влекомые неуемною любознательностью вы, к досаде своей, приметесь то и дело возвращаться к вышеописанному — не к тому разве вы относитесь типу, что во всем ищет рационального истолкованья и логики? — и молодецки пробиваться к началу ли или к финалу, а в конечном итоге никуда-таки не пробьетесь и ничего-таки не установите, то припомните, остроумные, мое слово.
Ошарашенный, чуть не изнемогающий от верченья мишка выудил из кармана трико курительную трубку, уже собрался было прислонить ее к бамперу «Волги», как вдруг протянутая его лапа застыла в воздухе. Сползая на землю, чуть не стоя одною ногою в могиле, он так отчетливо, так щемяще уловил звуки музыки, что вначале даже опешил. Но когда к его единственному оку подступили жаркие слезы, усек, что ему не мерещится, что вокруг разливаются, растекаются, расплываются нежнейшие и мягчайшие, свободные, совсем свободные звуки, будто бы над головою его роятся, полощутся и трепещут целые рати бабочек и стрекоз. А вообще говоря, какая из композиций, из всех, что звучали на всем протяжении истории джаза, представляется вам разом нежной и мягкой, лихой и раскованной, неизъяснимо грустной и притом пронзительно благородной и изысканно-тонкой, словно лирическое эхо речей проповедника. Не уверяйте меня, будто всякая композиция именно такова. Я прошу вас припомнить ту, что выпета как бы нарочно для нашего текста, что вписалась в него, звенит едва слышною стрункой. Неужто можно усомниться, что это «Африка» Колтрейна? Ну да ладно, чего греха таить, мне и самому она припомнилась только что. И благодарность за это надлежит воздать не столько точной целевой установке, сколько непредвиденной, внезапной случайности, то и дело оказывающейся предпосылкой успеха. И впрямь, когда бы медведь чуть-чуть приподнял свою лапу, наверняка ухватил бы в горсть несколько бабочек. Но обе лапы у него заняты, одна трубкой, другая же королем треф. Впрочем, и вздевать упомянутую лапу у медведя особой надобности нету, прозрачные бабочки стаями, как снежинки, слетают и усевают ему макушку, загривок и плечи, отчего замерший было оплывший зверь разражается вдруг неудержимым потоком слез так, что еще капелька, еще чуть, и он, громадина, падет, теперь уж от нахлынувшей радости, замертво. Ну держись, косолапый, и всемогущие силы придут к тебе на подмогу! Точней вот они уже и пришли. Ну скажите, надобно ли мне подчеркивать, что звуки бальзамом пролились на душу мишки, дотронулись и оживили все самые мельчайшие струны, все забившиеся вглубь уголки его сердца? Так не будем распространяться, а заметим кратенько, что этакий здоровенный зверюга стоял столб столбом и безотчетно, неосознанно, вопреки всей моралистической литературе исходил жаркими слезами, так вдруг содрогнувшись и сотрясясь, будто бы его схватила лихорадка, и прижимал к груди трубку и трефового короля, как скорбная, окаменевшая от горя мать игрушку своего погибшего дитятки. Признайтесь, положа руку на сердце: следует ли для достойного увенчания предшествовавшего нагромождения суждений уточнять, что музыка доносилась из-за окон Очигава?
Зато совершенно необходимо поставить читателя в известность, что не прошло и минуты, а мишка уже стоит у входной двери Очигава и нажимает когтем на кнопку звонка. И что ровно через месяц Шамугиа так же настойчиво будет жать пальцем на эту же кнопку. Оттого что, пока мы мучили и терзали медведя, Шамугиа усилием мотора и воли достиг порога гадалки Фоко. Короче, мишка звонит, Шамугиа же позвонит, хоть и оба жмут на кнопки одновременно. Да-а, надобно, необходимо, нужно отметить, что вот тут, здесь, в этой строке таится точка опоры всей книги, всего одоленного и предлежащего повествования: прошлое вкупе с будущим, слитые с вечным, вселенским сейчас, сим мгновением, настоящим временем всякого из глаголов. Не укладывается в головах? Ну и неотесанные же вы чурбаки, когда не догадываетесь, для чего могли бы использовать эту мощную точку опоры. Доступно и всесторонне истолковать сей феномен не так уж, ротозеи, и просто, однако ж для чего не попробовать дать исчерпывающее объясненье, пусть даже мне понадобится для этого ignotum per ignotius.[3]А вообще, между нами, мне сейчас не с руки облекать эту мысль в приличествующую ей словесную оболочку, хоть, правда, откладывать сие в долгий ящик не стоит, тем более, что в печи уже горячо, а когда и ковать железо, как не тогда, когда оно… Ну, ковать так ковать. И поскольку вы, страстотерпцы, выказали столь несгибаемую стойкость духа, дотерпите еще самую малость (уверяю вас, что не использую ваше терпение во зло) и примите на веру мои соображения о том, что я вознамерился сделать вам сейчас сообщение о почитаемом за главнейшее во всей этой книге. Сие давно обетованное вам признание метит на коренное, на отторжение, абстрагирование от узаконений и обычаев, что, хоть и внедрились в нас, угнездились, прямо-таки неотрывно впаялись, однако же представляются мне отжившими рудиментами, пережитками древних, замшелых, застойных и диких нравов. И когда бы не трудноописуемое благородство моей души и не мое любящее, отзывчивое сердце, от рожденья дарованные мне всевышним, чем я в первую голову по гроб жизни должен быть обязанным матушке, а уж потом славной половине человечества, споспешествовавшей мне сохранить оба эти свойства доныне, то я ни за что не открыл бы вам местонахождения сей точки опоры. Отбросив в сторону все эти плетенья окольных словес и лукавых намеков, скажу, что, как бы иные, куда лучшие, нежели я, бумагомаратели ни лезли из кожи, дабы надежно укрыть точки опоры своих достославных творений (надобно ли идти далеко, когда сам отец наш небесный соизволеньем своим утаил от рода людского точку опоры сотворенного им мира), шила — полагаю, вы помните эту народную мудрость — в мешке не утаить-таки; и в страхе перед тем, как бы кто не схватился аккурат за самую точку и не запустил нам в башку содержащим ее нашим же опусом, я предусмотрительно, как вы уже можете засвидетельствовать, мои правдоискатели, сам раскрыл вам ее обитель. Впрочем, отчего мне было и не раскрыть ее, не решиться и не проорать во всю глотку: точка опоры сей книги обретается здесь — вот она! — и ни чуточки не опасаться, как бы кто не хватил кладезь творческих идей и затейливых мыслей моим собственным детищем? Это все, наукоемкие, о чем мне удалось в шутку ли или со всею серьезностью информировать вас по поводу точки опоры. И когда вы, черт вас знает, по какой такой причине, ничего из рассказанного не усвоили, я учту сие и по мере своих немалых возможностей растолкую самым что ни на есть доступным всем способом, который в просторечии то и дело зовется наглядным: если вы вообразите себе эту точку букашкой, а все творение целиком куском янтаря, то куда легче уловите суть сочетания этих феноменов. И если изъясниться совсем уж топорно, точка — упомянутая мошка в упомянутом осколке прозрачного солнечного камешка (дабы наглядней представить процесс и его увенчание, поставьте на место мошки собачью голову, только вплавьте ее не в янтарь, а во что вам желательно, кроме янтаря). О том, что янтарь, сей камень, слывущий полудрагоценным, по милости доисторической мошки становится истым сокровищем и бесценным даром, нам, потомкам, долго распространяться, естественно, не приходится. Ну так почитаете вы себя важнейшими и первейшими из земных обитателей? Вот и используйте эту точку, как вам заблагорассудится. Велика ли хитрость выцарапать букашку из янтаря? Да господи! Ловкость рук и никакого мошенства. Ладно уж наша книга, но если бы творец всего сущего не утаил точку опоры им сотворенного, то какой-нибудь Архимед потом такое бы выдал, что вверх тормашками переворотил бы и небо, и землю, так что ищи их потом, разбирайся. А так дудочки, и пальцем не тронул, хоть и долго грозил переверченьем. Но, оставивши в покое и небо, и землю, примемтесь прямиком за книгу и если уж вы не запустите в меня ею, то, благодетели мои, хоть полистайте ее, господа, при том, что я весьма сомневаюсь, отыщутся ли в природе мощь и сила, коих достанет не скажу перевернуть, а даже и сдвинуть с места сию книгу. И, дабы не размениваться на мелочи, предпочтительней всего остального бросить пыжиться и хорохориться, а сосредоточить внимание на том, к рассказу о чем возвращается автор: мишка давно уже жмет, следователь Шамугиа скоро нажмет на кнопку звонка Очигава, их разделяет такая малость, как месяц, что для повествования существенного значения не имеет. Да, для нашего сочинения, как вы то и дело уверяетесь, протяженность времен ничего не значила и не значит. И каким, скажите на милость, прибором или аппаратом установить, учесть или определить, что такое долгий, а что короткий, и как допытаться, есть оно и каково оно, время, на каких его можно взвесить весах, какой астролябией произвести замер его пределов и граней, каким вычислителем счесть его мощь или немощь, и, если отбросить в сторону и эти феномены, как убедиться, есть у него свойства и признаки или их нету? Вы, признаюсь, должно быть, несколько отупели, мои ущербные, когда и впрямь полагаете, что я могу вам ответить на эти вопросы. Намек дать могу: см. «Волшебная гора», глава шестая, «Перемены», хоть меня так и тянет предостеречь вас, что утруждаться и упираться было бы делом напрасным и зряшным, если вы и впрямь зароетесь в главу упомянутой книги, равно как и в «Метафизику» Аристотеля или в приложенный к ней «Комментарий» Фомы Аквинского в надежде хоть что-нибудь понять и усвоить, однако же если мозгов она вам не прибавит, то хотя бы понудит расшевелить наличные. Упомянутая глава мною прочитана со всем вниманием и тщанием раз чуть не двадцать, проштудирована от альфы до омеги, прибавления ума же, увы, не последовало и основ никакой теории не сложилось. Поделюсь наконец не краем уха услышанным, а из собственного своего опыта позаимствованным: иное дело зовется трудом, иное же — зряшною суетою. И, дабы избежать пространного философизма, выскажу упование: прозорливцы мои докумекают, про что я тщусь рассказать. Про то именно, что это мое соображение далеко отстоит от дичайшего заблуждения, сиречь профанного простонародного убеждения, будто бы труд облагораживает человека. Я отнюдь не почитаю труд гарантом успеха и блага, а исходя из сего не полезней ли вам, вместо ворошения книг приняться за практическое деяние, меня же, когда бы не надобность дописать сие сочинение, ничто не могло бы принудить обратиться ни к какому занятию. Мало того — невзирая на то что это признак невежества и беспомощности, и более ничего, — я бы умотал, удалился из города куда-нибудь в глушайшую деревушку, где не только газеты, но и обрывка ее никогда и видом не видывали, уединился в тени смоквы, бросился в мураву и совсем ни о чем бы не думал, а предавался деяниям, коим веками посвящали себя наши предки, — отбросил всякие раздумья, размышления и слился с жизнью природы, благо все мы ее дети. Она же, природа наша благословенная, уж очень на то сподручна: с весной дерева обильною наливаются влагой — природными соками, черпай ее неустанно горстями с раннего утра и до позднего вечера, не вычерпаешь. Лето столько мух нагонит на потолок, что считай их, не считай, до осени не перечтешь. А осень! За окнами льет, все по горло утопает в грязи, а ты уминаешь постель, да еще усиленно лижешь втащенный под одеяло судок. А зимнее пред очагом сидение и ворошение золы? Умиление! Предки наши, полагаете, и чем иным баловались? Да что вы? А препятствовало это им быть, скажите, во какими детинами? Вы, господа, допускаете, я вас уверяю, ошибку, когда верите, что у всего сего мало общего с нами. Напротив, мы связаны, сплетены кровью и плотью, неустранимо и нерасторжимо, оттого что у нас искони почитается старость, пращуров же своих я и сам полагаю старейшими на лоне земли. Впрочем, не худо бы при этом припомнить, что не все из них были ретивые радетели за отчизну и не всякого даже из древних надобно без разбору брать за образец и пример. В укоризну нам не обойти стороной и того, что во всяком из поколений нет-нет да и объявлялся какой-нибудь этакий, с заскоком, на позор нам и поношение, кто — хвать! — и отказывался ворошить со всеми золу и, негодник, брался вдруг тесать камень, дабы восставить его где-нибудь в Икалто или, того хуже, у черта на рогах, или жизнеописание кого из праведников строчить, агиографию пополнять, а то и выпевать пространнейшие поэмы, от коих потомки долго еще будут млеть да замирать, или мозги полоскать над всеобщим переустройством житья, а то над сокровищами, из страны увезенными, бог знает где трястись, помирая от голода, а еще находились такие чокнутые, что увидят где утопающего сукина сына, и бац за ним очертя голову в воду, не зная броду, и поминай обоих как звали! Неймется, ей-богу, строптивцам, у тлеющего очага. Уж сидели бы мирно и смирно или совсем уж блаженствовали под одеялом с чашкой или судком, нежели маяться голодным желудком или покачиваться в такт с течением, раздувшись на дне моря.