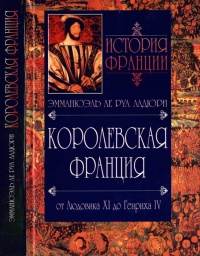Книга Королевская аллея - Франсуаза Шандернагор
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наконец, мы прибыли в Лавальер, маленький замок, стоявший между Назельским и Амбуазским холмами; он принадлежал сводной сестре Скаррона по отцу, единственной из всех, с кем он хорошо ладил. Затем мы провели пять или шесть месяцев на его фермах, в Фужерэ и Ларивьере, что в приходе Лимере. Стояли сильные холода, вид местности наводил уныние. В здешних местах три года бушевала гражданская война. Народ, измученный нищетой и грабежами, питался одними кореньями. В полях находили трупы с вырезанными кусками мяса, — случаи людоедства были нередки.
И, однако, я была счастлива, что покинула Париж, и воспользовалась удобным случаем, чтобы осторожно разъяснить господину Скаррону, в каком нелепом свете он выставляет меня перед обществом. Я доказывала ему, что подобное глумление тяжко для порядочной женщины и может толкнуть ее на скользкий путь; что если я проявляю к нему должное уважение, то и он обязан щадить мою скромность. Супруг мой был достаточно умен, а в отсутствие публики и добр, чтобы не проникнуться моими резонами. Он обещал все, о чем я просила, и в дальнейшем вел себя более или менее прилично, так что жизнь наша в Ларивьере стала почти безоблачною.
Господин Скаррон даже разрешил мне съездить в Пуату, повидаться с родственниками; на самом деле я хотела встретиться с моей дорогой Селестою, для чего пришлось сделать крюк верст в пятьдесят. Затем я навестила мою милую тетушку де Виллет, которая страшно обрадовалась, услышав о моем замужестве, хотя ничего не знала о господине Скарроне. Я не стала посвящать ее в темные стороны моего брака, не желая, во-первых, огорчать эту добрую душу, а, во-вторых, твердо придерживаясь взятого правила умолчания; кроме того, я полагала себя уже достаточно взрослою, чтобы самой решать свои дела, не затрудняя ими эту святую женщину. Госпожа де Виллет завела со мною разговор о религии; она узнала о моем обращении, и оно сильно огорчило ее. Она надеялась, что замужество, освободившее меня от опеки госпожи де Нейян, позволит мне вернуться к гугенотам, но я разуверила ее, сказавши, что не собираюсь, подобно моему отцу, каждый год менять веру. Добрая моя тетушка умолкла и более не возвращалась к этой теме, но любить меня не перестала. Мы распрощались с нежными поцелуями и обещаниями увидеться в самом скором времени.
В мое отсутствие Поль Скаррон сочинил несколько сказок и взялся за продолжение своего «Комического романа». Когда я вернулась, он стал каждый вечер читать мне по главе, написанной за день. Кроме того, он дал мне несколько интересных книг, которые мы затем обсуждали; по такому случаю он даже заставил меня учить испанский и итальянский языки, которыми, по его мнению, непременно должна владеть каждая светская женщина. Занимаясь этим чтением, счетами от двух ферм и хозяйством, я чувствовала себя счастливою, как некогда в Мюрсэ, и питала надежду, хотя и слабую, что мы подольше проживем в Турени. Однако, если наше почти любовное уединение нравилось Скаррону-мужу, то оно вовсе не устраивало Скаррона-повесу. Он скучал по своим парижским «дебошам», по веселым собутыльникам из «Сосновой шишки» и «Львиного рва», по юбочникам и выпивохам, по распутникам всех мастей, вроде Буаробера, Ренси, Сент-Амана и Ресто, составлявших его обычную компанию. Кроме того, у него было мало денег: он имел лишь один источник дохода — от «маркизата Кине», иными словами, от своего издателя, и рассчитывал вскоре получить кое-какие суммы, отдав ему свои новые сочинения. В феврале 1653 года он решительно отказался от поездки на острова и от самоличного управления своими фермами; заручившись наконец прощением кардинала, он собрался в Париж, дабы ускорить печатание «Дона Яфета».
Мы не могли больше жить в особняке де Труа, и нам пришлось просить временного приюта у моей золовки Франсуазы Скаррон. Она жила, так же, как и ее сестра Анна, в квартале Марэ, на улице Двенадцати Ворот, которую насмешник Скаррон прозвал улицею Двух Ворот, имея в виду потайные «ворота» своих сестриц. Правду сказать, Франсуаза Скаррон не нуждалась для сей непристойной арифметики в компании сестры, — в молодости у ней самой было предостаточно романов. Нынче же она жила на содержании только одного, но весьма удачно выбранного любовника герцога де Трема.
Если кому и подходило понятие «вести двойную жизнь», так это именно ему, питавшему великую склонность к удвоению: он дал трем своим сыновьям от Франсуазы те же имена — Франсуа, Рене и Луи, — что своим законным детям, обставил комнаты любовницы точно так же, как апартаменты жены, и выращивал во второй семье щенков от собак, содержавшихся в первой. Непрестанно переходя с Сенной улицы, где стоял особняк де Тремов, на улицу Двенадцати Ворот, то есть, из главного дома в запасной, он воображал, что, благодаря столь заботливому устройству, избавляет себя от перемены обстановки. Тем не менее, все в его второй семье — жена, дети и щенки, — хотя и походили на «первых», но были моложе на целое поколение, и герцог уверял, что, пересекая улицу, он всякий раз молодеет лет на двадцать, как по взмаху волшебной палочки. Вот на деньги этого-то мечтателя или, по крайней мере, в его доме мы и прожили первые месяцы после нашего возвращения в Париж.
Отъезд в деревню не лишил Скаррона известности, но привычное общество распалось, а состояние финансов было весьма плачевно. Результатом его блестящей «Мазаринады» стало то, что он лишился пенсии в пятьсот экю, которую прежде королева Анна выплачивала своему «почетному больному»[17]из личной казны. Год назад он продал свою должность каноника в Мансе секретарю Менажа и давно прожил эти деньги. Сумму, вложенную в американскую экспедицию, также можно было считать потерянною; из колоний к нам доходили самые скверные известия: аббат Мариво утонул, губернатора де Руэнвилля убили его же «наемники», колонисты воевали меж собою не на жизнь, а на смерть, дикари бунтовали, а тех, кто избежал индейских стрел или топора палача, косили голод и болезни. Что же до литературных произведений поэта, они были заранее проданы нескольким издателям, и ему пришлось бы трудиться многие месяцы, чтобы отработать аванс, выданный и Люинем и Соммавилем. А нам нужно было чем-то кормиться и где-то жить уже сейчас; оставалось два выхода: продать фермы или просить милостыню.
Скаррон сделал по очереди и то и другое, начав, однако, с милостыни, которую, в отличие от маленькой «индианки» из Ларошели, всегда просил с легким сердцем.
Его заработком стали посвящения. Кесарю кесарево: Скаррон начал с юного короля Людовика, которому посвятил напечатанного «Дона Яфета», намекнув, что Король не разорится, если чуточку поможет ему. Одновременно он выпустил коротенькое и очень ловко составленное «послание», где осмеивал вчерашних друзей: «Фрондеры, вы просто безумцы, вам пора бы смириться; вспомните, что фронда — это веревка[18]; вам пора бы смириться и воззвать к милости!» Увы, ни Король, ни Кардинал не пожелали открыть кошелек для жалкого рифмоплета. Пришлось спуститься пониже. Скаррон не забыл никого из знатных и незнатных богачей: «Разве это преступление для нищего калеки — просить на пропитание?!» Он обращался ко всем подряд — к Гастону Орлеанскому, мадемуазель де Отфор, маршалу Тюренну, сюринтенданту Фуке, Эльбефу, Сюлли, Вивонну, своему кузену д'Омону; затем, боясь надоесть сильным мира сего, он приступил к людям рангом пониже: советник Моро, финансист Фурро, казначей Дюпен, даже граф Селль, мерзкий пошляк, обивавший пороги светских салонов, — все они удостоились самых возвышенных похвал за несколько экю или какой-нибудь паштет. Щедрее всех оказался Фуке, который раздаривал деньги своим приближенным с тем же размахом, с каким черпал их в королевской казне; поскольку он любил комические стихи и сатиру, поэту была определена годовая пенсия в 1600 ливров, к которой иногда добавлялась через Пелиссона еще какая-нибудь малость. Гастон Орлеанский также велел внести Скаррона в список своих пенсий и назначил 1200 экю.