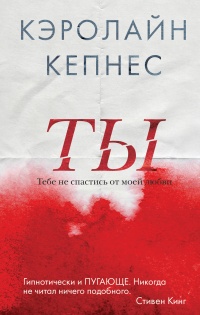Книга Наемник - Чарльз Холдефер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Оказалось, что после волос и одежды легче всего горят губы. Не важно, в каком положении находился человек – все еще за рулем, на капоте или вообще отдельно, в стороне от машины; не важно, целым он был или поврежденным (а некоторые части этих тел все еще дымились), – но все они, труп за трупом, казалось, ухмылялись. Ошеломленные увиденным, мы начали осматриваться. Говорить было не с кем. Ни одной души, которую можно было бы допросить. Видя вокруг одно и то же, мы невольно ускоряли движение, и вскоре все дружно перешли на бег. Так мы спешили выбраться оттуда. У меня появилось жуткое ощущение, что, хотя поисками вроде бы занимаемся мы, на самом деле наблюдают за нами. Чем дальше, тем сильнее. За нами внимательно следили. И тех, кто наблюдал за нами, невозможно было обмануть – о нет, только не их! Они знали о нас все. Понимали, что мы шокированы. Может, поэтому они все ухмылялись?
* * *
Я рассказываю об этом не для того, чтобы попугать или продемонстрировать раскаяние. Я не хочу сказать: «Знаете, это же стыд, нам не следовало туда являться! И вообще, нашим надо было позволить революционной гвардии отступить домой с веселыми песнями. Послушайте, нам, верно, надо было сосредоточить воздушные удары исключительно на персонале идеологической службы, а войска, вместо пятисотфунтовых и вакуумных бомб, осыпать „сникерсами“ и убедительными листовками о пользе позитивного мышления.»
Нет, я рассказываю об этом по другим причинам. Дело в том, что в тот день я узнал цену. Разумеется, я был потрясен и испытывал отвращение; я не люблю об этом вспоминать и тем более задумываться. Но этот день кое-чему научил меня, закалил, дал силы и возможность понять политику взрослого мира – а позже и стать контрактором. Вот что я крепко усвоил: то, что все мы принимаем как данность, что ценим и любим, остается жизнеспособным только благодаря нашей готовности делать это.
Никто не хочет говорить об этом, никто не хочет признавать эту жестокую готовность; каждый хотел бы загнать ее с глаз подальше – но многие ли из нас хотят жить иначе? У многих ли критиков хватит духу отказаться от защиты, которая реализуется ценой подобных действий? Во всяком случае, вопрос этот решается не на личностном уровне, он гораздо серьезнее чьей-то личной правды. Фундамент цивилизации уходит глубоко, очень глубоко – и, что бы ни говорили, достигает ада.
Поэтому я стою на своем. Позволить тем людям уйти было бы серьезной стратегической ошибкой и вообще неправильно, имея в виду возможные последствия. Этим – этим мы заплатили за собственную правоту. Если смотреть глобально, прав не всегда тот, кто поступает как положено юным скаутам; вот только детям мы этого не говорим. Нет, борьба за правое дело – страшный процесс, сметающий на своем пути многое и многих. Не только тиранов и злодеев, но и тех, кому не повезло, кто оказался в неудачном месте в неудачное время, кто ничего не натворил, – в общем, да, невинных людей. Всякий, кто скажет иначе, необъективен или пытается оправдаться. А может быть, просто лжет себе. Мне не доставляет удовольствия это говорить, но невинные не только умирали и будут умирать – они должны умирать.
* * *
Отслужив свой срок, я не стал продлевать контракт. Даже если бы мне этого хотелось, Бетани, думаю, не поддержала бы меня. В конце первой войны в Заливе командование, вместо того чтобы отправить меня обратно в Англию, заставило напрасно болтаться в Дохе. Бетани ждала меня в Англии, безуспешно пытаясь получить разрешение на работу и найти себе место. Она задыхалась в узких рамках существования жены военного и никак не могла приспособиться к тамошнему климату. «О Джордж, я никогда не видела, чтоб с неба текло столько воды, – читал я в ее письмах, сидя на корточках под куском брезента в Дохе и пытаясь хоть так спрятаться от неистового солнца. – Теперь я понимаю, почему у человека может появиться желание сунуть голову в духовку». Я принял это заявление за попытку мрачно пошутить, но в июне, когда мы наконец вновь соединились, я понял, что у Бетани серьезная депрессия. Тогда же меня начало беспокоить ее растущее пристрастие к выпивке.
Никогда не забуду, в каком состоянии мы с ней тогда встретились. В транспортном самолете С-47 на пути в Англию я жестоко простыл; всю кампанию в Заливе я был здоров и прекрасно себя чувствовал, но резкая смена климата и недосып подкосили меня. А Бетани решила отпраздновать наше воссоединение и забронировала места на уик-энд в модном загородном отеле, расположенном в роскошной старинной усадьбе под Нортхэмптоном. До того я думал, что жалобы на холод в ее письмах преувеличены (в конце концов, она выросла в Северной Дакоте!), но в тот уик-энд я понял, что она имела в виду. Никогда в жизни я не чувствовал такого дискомфорта! Проведя в комнате с каменными стенами и волглыми простынями отвратительную ночь, прерываемую приступами кашля, и промерзнув до костей, я поднялся и, буквально дрожа от лихорадки, выдал откровенную нелепицу: заявил, что прекрасно себя чувствую, что на самом деле чувствую себя лучше. Когда Бетани ненадолго вышла из комнаты, я склонился над фарфоровым тазиком, помнившим, наверное, еще бакенбарды Гладстона, и изверг из себя полпинты слизи. Я натянул на себя всю одежду, какая была, и остаток июньского дня безуспешно пытался отогреть кости; я живо представлял, как бросаю в камин какую-нибудь старинную безделушку или картину маслом, как вспыхивает в его пасти жаркое пламя. Перед ленчем Бетани залпом выпила второй стакан джина с тоником, и мы попытались поговорить. За время разлуки мы разучились разговаривать друг с другом, и нам пока не удавалось нащупать верный ритм в отношениях. Мы позволили уговорить себя и присоединились к компании других гостей имения. Это были несколько английских супружеских пар; у них у всех почему-то были странной формы задницы, они кутались в толстые свитера и жизнерадостно рассуждали о крокусах. Время шло, моя лихорадка усиливалась, и постепенно все вокруг стало каким-то призрачным и нереальным. Где-то около двух часов вдруг объявили, что появилось солнце, и мы всей толпой бросились на улицу – но я так и не успел его увидеть.
В тот день больше всего мне запомнилось ощущение абсолютного счастья, которое я испытал от слов Бетани; она отвела меня в сторонку и сказала, что, поскольку ничего не получается, нам стоит уехать пораньше. О, чудный восторг! Мы загрузились в деревенское такси и покинули имение, прокатившись напоследок по полукруглой гравийной дорожке перед домом. Мне было от всей души жалко остальных гостей и вообще всех жителей Англии, хотелось опустить стекло и заорать: «Сдавайтесь, хватит терпеть это безобразие!»
Да, пора было возвращаться домой.
* * *
Мы все еще были в Англии, когда умер мой отец. Откровенно говоря, эта семейная трагедия позволила мне уйти из армии немного раньше, чем официально предполагалось. Это был один из тех моментов, когда ясно понимаешь: страница жизни перевернута, вернуться назад уже невозможно.
Когда мы приехали на похороны в Гарден-Сити, возник вопрос о будущем семейного бизнеса.
– Я не хочу больше этим заниматься, – сказала моя мать. – Мне пора отойти от дел.
Дело было после кладбища, мы только что опустили отца в землю; позади были объятия, рукопожатия и венки; позади – пока – были и слезы. Мы сидели на кухне в доме родителей, пили кофе; все вокруг было заставлено рядами аккуратно прикрытых блюд, принесенных друзьями и соседями. Миски и тарелки напоминали самолеты на стоянке. Мы все устали, но были спокойны и собранны. Мы обсуждали, что дальше.