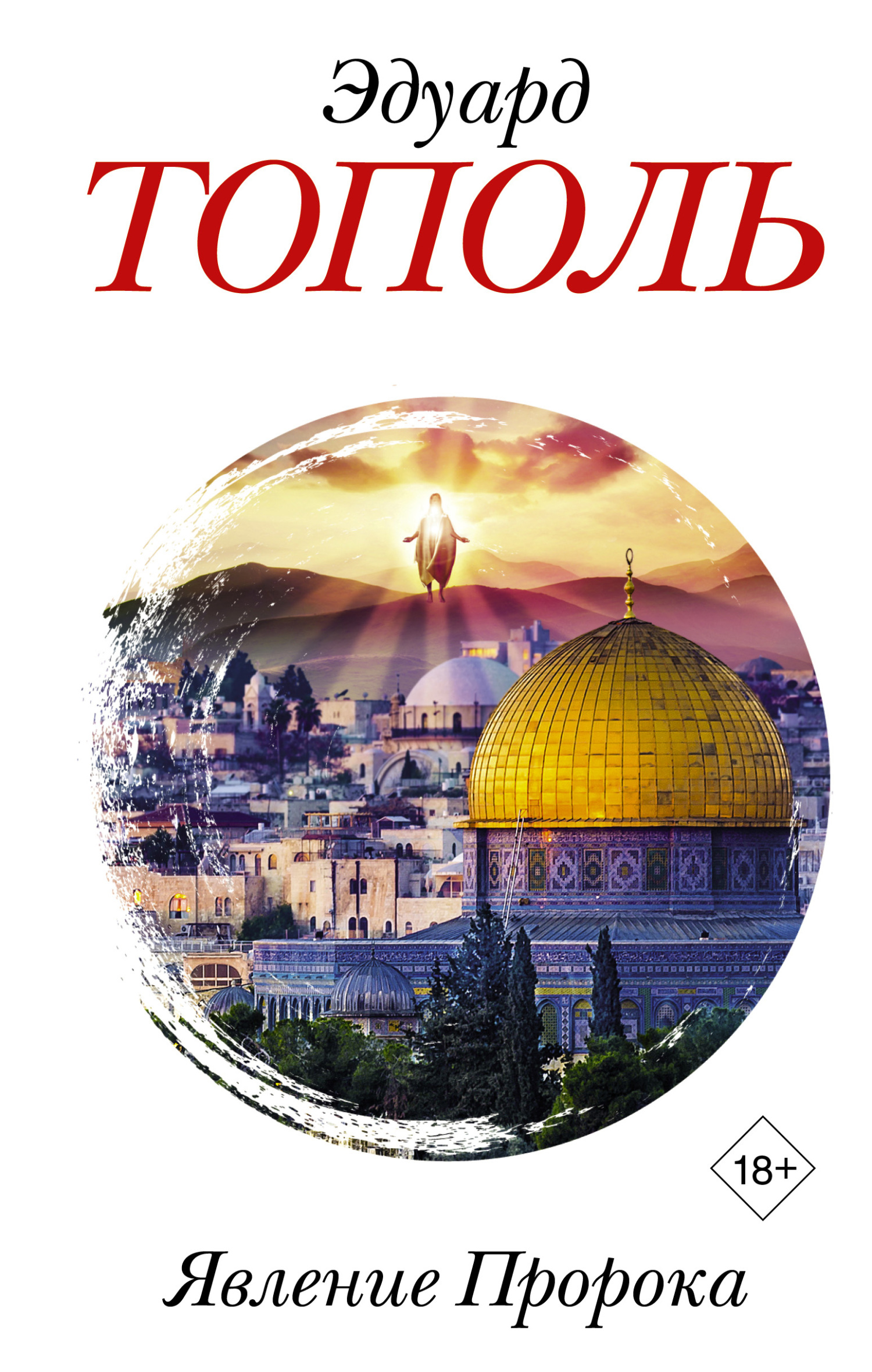Книга Все, что мы помним - Брюс Нэш
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А на шее у него красивые красноватые пятнышки, словно розы. Розовые, как розы, которые нравятся Розе. Роза – роза, Роза – цвет…
Он сжимает мне руку. И на пальце у меня – на руке, которую он сжимает, – блестит кольцо.
Роза – роза, Роза – цвет, Роза – розовый букет…
Мы явно ровесники, и мы похожи на детей.
Птичьи слова передаются туда-сюда, витают вокруг нас в воздухе, в солнечных лучах.
И здесь есть любовь. Дядечка постарше сжимает мне руку и кольцо у меня на пальце и говорит:
– Я люблю тебя, Роза.
И тут птичий гомон становится просто оглушительным. Распускается и расцветает повсюду вокруг нас, словно огромный цветок, и даже непонятно, какого он цвета – настолько он весь разноцветный, и жаль, что я не знаю, как они называются, эти птицы. Кукабарры? Смеющиеся кукабарры? [9] Но не могут же они все быть кукабаррами, ведь, помимо смеха и хохота, они еще и визжат, и клекочут, и скрежещут, и издают трели, и гогочут, и бормочут, и щебечут, и щелкают, и все эти их звуки такие же яркие, цветущие и разноцветные, как и цветы, и вдруг как по волшебству все цветы вокруг становятся одним цветком, одной розой, и тогда я понимаю, что и птица здесь тоже одна. Я знаю, что, как бы это ни было невероятно, весь этот шум исходит от одной птицы, от одной-единственной птицы, произносящей все эти слова, и в этих словах – все птицы, все цветы, весь солнечный свет и все розы на свете, а также еще одна Роза. И тут я понимаю, что вовсе не птицы, не цветы и не солнечный свет издают эти звуки, и это не они произносят все эти слова. Это я сама – это я сама произношу их, и даже не так уж и громко, но шум от этого повсюду и во всем.
– И я тебя люблю, – говорю я.
– О! – вот что говорит мой сын, когда я говорю ему, что влюблена. А еще: – Что-что ты сказала? Влюблена, правильно?
– Не знаю, правильно это или неправильно. Знаю только, что я влюблена.
Позже я говорю то же самое своей дочери.
– Я влюблена, – говорю я.
Моя дочь ничего не отвечает.
– Ну ты даешь, бабуля! – восклицают Частити и Фелисити.
Задаю дочери тот же вопрос, что и сыну:
– Почему ты не сказала мне, что я была влюб– лена?
– Мам… – говорит мой сын, когда я его об этом спрашиваю, и обводит взглядом комнату. Вижу, что он смотрит на фотографию дядечки постарше, которая сейчас и не у самой стенки, и не на самом краю этого, как его там. Она на моем окне, где я ее оставила. На этом, как его… подоконнике. Над горшками с растениями. Deliciosa.
– Я рад, – говорит он, но вид у него не особо радостный. Рад… Радермахера китайская. – Ну конечно же, ты любила его.
– Любила? В каком это смысле любила?
Что же касается моей дочери, то если она и замечает фотографию дядечки постарше у меня на окне, то ничего не говорит. Это у нее всегда очень хорошо получается.
– Почему ты мне не сказала? – настаиваю я. А это уже то, что всегда хорошо получается у меня.
В конце концов она сдается.
– Любишь, любишь, любишь… – бормочет она, нацеливая эти слова в ванну. И вздыхает.
Ну вот, только представьте себе… Я влюблена. Хотела бы я сказать об этом своей приятельнице, но она выпала из окна. Тогда, пожалуй, скажу тому субъекту, который лежит на кровати моей приятельницы.
Он мне по-прежнему не нравится. Я сижу возле кровати своей приятельницы и смотрю на него. Он смотрит в телевизор. Рот у него раскрыт, и пижамные штаны тоже.
– Представляете? – говорю я. – Я влюблена.
На лицо ему садится муха.
– Не в вас, конечно же. – Важно, чтобы он это понял. – Вы мне совсем не нравитесь.
Муха ползет по его лицу. Интересно, почему он так мне не нравится… почему он мне так не нравится.
– Вы даже в скрэббл играть не умеете, – говорю я ему.
Хотя вообще-то причина не в этом. А в том, что он лежит на кровати моей приятельницы. В отличие от моей приятельницы. В том, что у него на счету достаточно денег, чтобы лежать здесь, а у моей приятельницы – нет. В смысле, недостаточно. В том, что у него есть пароль. Так что он может так вот просто лежать и смотреть в телевизор в расстегнутых пижамных штанах, когда по лицу у него ползает муха.
– Не такой уж вы и особенный, – говорю я.
Муха заглядывает ему в рот, раздумывая, не залезть ли туда. Там, должно быть, мерзко.
– Ваш аккаунт могут поменять, как и у всех остальных.
Муха передумывает и ползет к ноздре.
– Может, они знают ваш пароль.
Ноздря муху тоже не устраивает.
– Наверное, даже я знаю ваш пароль.
Муха спускается к его мерзкого вида шее.
– Я знаю целое множество паролей. Слов-пропуско́в. Которые на месте недавних про́пусков.
Эти мерзкого вида складки на его мерзкой шее… Они красные, а не розовые. И выглядят так, будто их сделали ножом – или, по крайней мере, чем-то острым, хотя и не прорезали насквозь. Они похожи на эти, как их… зарубки на дереве. Как будто кто-то что-то отмечал – непонятно только, хорошее или плохое. Или, как это там говорится… подводил черту. Причем не один раз.
Муха ползет вдоль одной из этих зарубок, и ее маленькие ножки исчезают внутри, словно в борозде. Или траншее.
Складки на шее у субъекта, лежащего на кровати моей приятельницы…
Пятнышки на шее у дядечки постарше на фотографии…
Первые – мерзкие. Вторые – нет.
Так вот, наверное, почему мне так не нравится субъект, который лежит на кровати моей приятельницы! Не только потому, что он может позволить себе лежать здесь, на кровати моей приятельницы, но еще и из-за того, что складки у него на шее – это не пятнышки на шее у