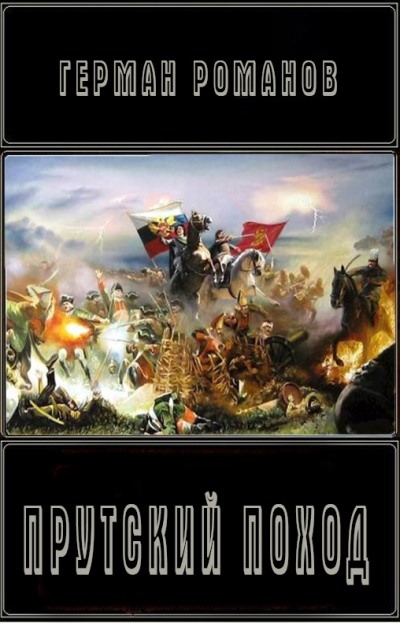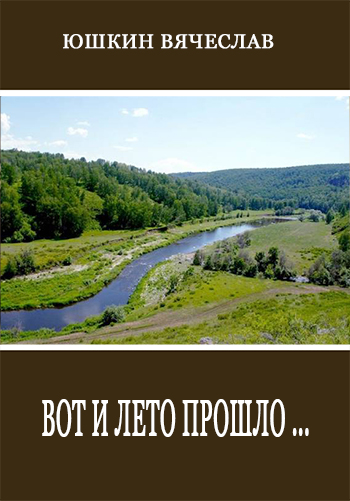Книга Лето с Прустом - Жан-Ив Тадье
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
2. Записать ощущение
Наше прошлое <…> прячется <…> в какой-нибудь вещи <…>, о которой мы меньше всего думаем.
Описав драму засыпания, рассказчик спустя несколько строк пытается собрать воедино воспоминания о доме в Комбре. В памяти возникают свет, лестница, несколько комнат и, конечно же, его спальня. Но он понимает, что для него, взрослого, всё это уже умерло. «Навсегда умерло»? Герой в этом не совсем уверен, он убежден, что существует возможность вновь обрести это прошлое благодаря какой-нибудь «вещи», которая – возможно, случайно – попадется ему на пути. Тогда возникает предчувствие чего-то огромного – непроизвольной памяти, которой предстоит оплодотворить его книгу, и вскоре она обретет форму мадленки.
* * *
Мадленка – это герб Пруста. Она появляется сразу после знаменитой сцены засыпания, в начале книги: рассказчик оказывается в своем доме в Илье, где два этажа съежились до одного светлого пятна. Из-за внезапного визита господина Сванна в этот вечер мальчик остается без матери. Безутешный, он отправляется к себе в комнату и там в одиночестве пытается справиться с горем. Он переживает травму разлуки с объектом врожденной любви: это настолько мучительный и болезненный момент, что рассказчик попытался стереть его из памяти. Но поскольку «мысли – замена печалей», грусть пройдет. Неужели детство умерло? Можно ли его вернуть, заключить в объятия?
Какие-то грани прошлого могут вдруг отыскаться в малозначительных деталях вроде «коротеньких и пухлых печеньиц, их еще называют „мадленками“, которые словно выпечены в волнистой створке морского гребешка»; рассказчик пробует их зимним утром вместе с матерью за чашкой чаю. Проснется ли благодаря им прошлое – как души мертвых в кельтских верованиях, как оно просыпается в других местах Поисков благодаря аромату цветов боярышника или красоте мартенвильских колоколен?
Пруст приглашает нас в настоящее духовное странствие, и каждый его этап заставляет нас пережить и прочувствовать прекрасные моменты неуловимой реальности. В простой мадленке сгустились, как он говорит, «перебои сердца», смыкающиеся через воспоминания детства с горечью опошления и немыслимостью смерти.
В самом деле, «мадленка» заставляет рассказчика задуматься и помогает ему почувствовать себя не таким уж «ничтожным, ограниченным, смертным»: так же «действует на человека любовь». С ее помощью нам исподволь, постепенно передается от Пруста тот холодок по коже, который правильнее всего назвать возбуждением. Печенье касается нёба, и вкус – это самое что ни на есть детское, извечное чувство из всех, присущих человеку, – пробуждает в нем нечто «необычное». Наслаждение вкусом, простое, одно из самых простых, и совершенно целомудренное, он описывает как сексуальный опыт. Беспричинное удовольствие («причина» – мама – осталась в гостиной) сближает чувственное воспоминание с состоянием влюбленности: в нем есть те же дрожь и волнение. Рассказчик наконец обретает радость, мадленка становится своего рода антидепрессантом, позволяя избавиться от тоски экзистенциальной обыденности. Он затыкает уши, пытается понять, что происходит, устраняет «все препятствия, все посторонние мысли» и наконец осознает, что эта любовь к чему-то неведомому, возможно, неосознанному, исходит не от постороннего объекта, а от него самого. Автор оказывается перед лицом реальности, которой еще не существует: как раз сейчас он создает ее сам. Пруст здесь пытается объяснить, что его роман – это не просто поиски прошлого. Письмо – это воссоздание прошлого, опыт пойесиса[23]. Пруст стремится расслышать в себе самом способность сотворить воображаемый мир. Он вдруг понимает, что ощущение жизни бессмысленно черпать извне, его творишь сам, своим воображением – способностью создавать слова и воссоздавать чувства.
Самое знаменитое печенье во всей французской литературе появляется на первых же страницах Поисков, где рассказчик вспоминает день, когда мама принесла ему чашку чая с мадленкой.
Уже много лет прошло с тех пор, как всё, что было в Комбре, перестало для меня существовать, кроме драмы отхода ко сну и ее подмостков, как вдруг однажды зимним днем я вернулся домой, и мама, видя, что я замерз, предложила мне, против обыкновения, попить чаю. Сперва я отказался, а потом, не знаю почему, передумал. Она послала за теми коротенькими и пухлыми печеньицами, их еще называют „мадленками“, которые словно выпечены в волнистой створке морского гребешка. И, удрученный хмурым утром и мыслью о том, что завтра предстоит еще один унылый день, я машинально поднес к губам ложечку чая, в котором размочил кусок мадленки. Но в тот самый миг, когда глоток чая вперемешку с крошками печенья достиг моего нёба, я вздрогнул и почувствовал, что со мной творится что-то необычное. На меня снизошло восхитительное наслаждение, само по себе совершенно беспричинное. Тут же превратности жизни сделались мне безразличны, ее горести безобидны, ее быстротечность иллюзорна – так бывает от любви, – и в меня хлынула драгоценная субстанция; или, вернее сказать, она не вошла в меня, а стала мною. Я уже не чувствовал себя ничтожным, ограниченным, смертным. Откуда взялась во мне эта безмерная радость? Я чувствовал, что она связана со вкусом чая и печенья, но бесконечно шире, и что природа ее, должно быть, иная. Откуда она? Что означает? Как ее задержать? Я отпиваю второй глоток, и он не приносит мне ничего нового по сравнению с первым, отпиваю третий, и он дает чуть меньше, чем второй. Пора остановиться, похоже, что сила напитка убывает. Ясно, что истина, которую я ищу, не в нем, а во мне. Он ее разбудил, но ничего в ней не понимает и только может повторять до бесконечности, всё с меньшей уверенностью, одно и то же свое свидетельство, которое я не умею истолковать, а мне бы выманить это свидетельство еще хотя бы раз, в первозданном виде, заполучить его в свое распоряжение, чтобы окончательно разобраться. Отставляю чашку