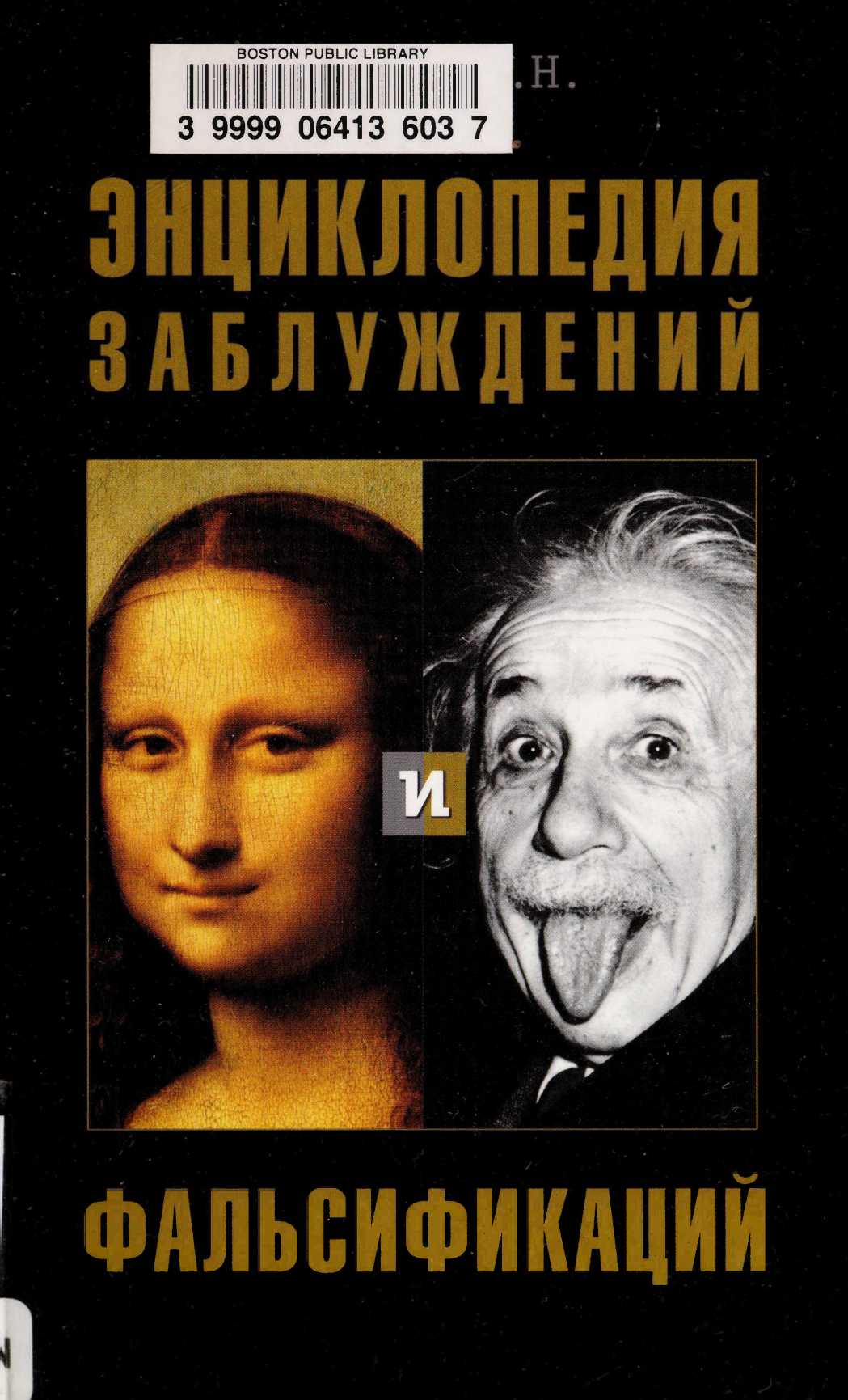Книга О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.
________
В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос,
К качелям бежит трюмо.
________
…Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад,
Огромный сад тормошится в зале,
В трюмо — и не бьет стекла. {-79-}
________
Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно.
________
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа?..
Ты спросишь, кто велит?..
— Всесильный бог деталей
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.
Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.
_________
Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад,
Это — запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это — вы, это ваша краса.
_________
Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
Можно ль тоску размозжить
Об мостовые кессоны?{-80-}
Это и всё, всё! — уложилось в душе и в памяти. И тут же начала складываться в тогда еще молодой моей голове тема зачетной работы (диссертации в те годы не защищались) за весь курс обучения в Брюсовском институте. Я уже мысленно озаглавил ее — совсем не академично! — «Повестью об одной волне материи». По тогдашним вузовским нравам, еще не отрегулированным высокими идеологическими инстанциями, такая работа могла вполне сойти за «революционную новацию». {-81-}
Глава четвертая
Вдвойне возбужденный прочитанной и понятой — не без усилия — замечательной книгой Пастернака, а также собственным литературоведческим замыслом, я побежал пешком с Чистых прудов к нему — бульварами на Волхонку.
— Здравствуйте, — сказал он настороженным голосом и со столь же настороженной мнительностью в лице (и то сказать, получив драгоценный подарок, я целых семь дней не давал о себе знать).
Но я с ходу же начал посильно варьировать пушкинское «Ты, Моцарт, Бог…». Лицо его сразу преобразилось, и — это было смешно и трогательно! — он имел вид преглупо осекшегося человека. Я сразу догадался почему: он уже приготовил совсем другую речь на тему, что, мол, мое «неприятие» его книги ничуть не поколеблет нашей дружбы. Я не ошибся. Он уже заговорил.
— А я, сказать по правде, уже примирился с тем, что при всех наших добрых отношениях — вы стихов моих не приняли.
Я, если это было возможно, еще больше полюбил его за эту детскую мнительность… Кем я был, чтобы он этим так смущался? Я весело перебил его:
— Вы читали Аверченко — «Сатириконцы в Европе»?
— Нет, не читал.
— Это и неважно. Должен признаться, я не сразу освоил язык «Сестры моей жизни». Но потом со мной случилось, как с «сатириконцами». Они не знали итальян- {-82-} ского языка и вдруг, чуть ли не у могилы Данте, с изумлением обнаружили, что его понимают. Все объяснилось как нельзя проще: это говорили такие же, как они, русские путешественники. Так и со мной. Сначала мне язык этой книги показался слишком смелым, слишком новым (по лексике, по системе метафор), так сказать, «чужеземным». Но вдруг я понял, что это и есть язык нашей новой поэзии. Все посолено исконно русской «горячею солью нетленных речей», — (эту строчку Фета часто приводил Пастернак ), — и сквозь неслыханно новое, чуть-чуть — и не так уж чуть-чуть! — проступает, как говорил друг вашего отца Серов, «хорошее старое ». — (Этот пассаж, включая цитаты из Фета и Серова, был, конечно, мною «придуман» и даже литературно отработан во время моего пешего путешествия на Волхонку.)
— Ха-ха-ха-ха! Как вы здорово это придумали мне сказать! Спасибо, Коля! — Он меня поцеловал.
Не дав ни ему, ни себе опомниться, я тотчас же заговорил о предполагаемой зачетной работе. Пусть читатель от меня не ждет дословного воссоздания моей тогдашней речи. В памяти она не сохранилась. Но основные положения моего замысла я помню отчетливо. Мною проводилась мысль (конечно, не только мне принадлежавшая) — мысль об утомлении и снашиваемости «материи поэзии» от постоянной потребности художника в «первичном», то есть в ее обновлении. Вместе с тем я полагал, что в поэзии всех времен и народов, на протяжении ее развития, копятся элементы, пригодные для ее преображения, — уже потому, что эти элементы представляют собой вечные свойства поэзии, «горячую соль» ее «нетленных речей». Для меня, для моего юношеского энтузиазма, эти элементы метафорического мышления, в прошлом разряженные, разрозненные, лишь оживлявшие речь стихотворцев, в поэзии Пастернака впервые заполнили все «поле творчества». {-83-} Метафору (в прямом и расширенном значении термина) я тогда воспринимал — понятно, ошибочно! — как поэзию κατ᾽ αυτο [22] , и если я все же говорил во множественном числе об элементах, то я под этим подразумевал лишь всевозможные разновидности метафорического построения.
Для меня (по сей день не знаю, не завирался ли я) даже такие простые пушкинские строки, как:
Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой, —
были «метафоричны». Я утверждал, что слово «край» здесь, благодаря соседству с «берегами отчизны дальной», обладает двояким