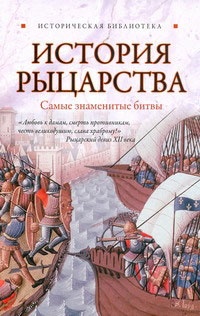Книга Дом имён - Колм Тойбин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пока был жив, он и ближние его верили, что боги некогда следили за их судьбами и заботились о них. О каждом. Но теперь скажу я, что нет, не заботились – и не заботятся ныне. Наши призывы к богам суть то же, что призывы звезды в небе перед падением, это звук, нам не слышный, звук, к которому, улови мы его, остались бы равнодушны.
У богов свои неземные заботы, для нас невообразимые. Богам едва ль известно, что мы живы. Для них, послушай они нас, мы были б как нежный звук ветра в кронах деревьев – далекий, ненавязчивый шорох.
Знаю, так было не всегда. Были времена, когда боги являлись поутру будить нас, когда расчесывали нам волосы, и насыщали наши рты сладостью речи, и прислушивались к нашим желаниям, пытались исполнить их, когда читали наши мысли и умели подавать знаки. Недавно, на нашей памяти, было слышно женщин, плакавших перед приходом смерти в ночи. Так умиравших призывали домой, приближали их побег, смягчали их трепетное странствие к месту покоя. Мой супруг был со мной во дни перед смертью моей матери, и мы оба слышали это, и моя мать тоже слышала, и ее утешало, что смерть готова призвать ее своим плачем.
Тот шум прекратился. Нет больше плача, подобного ветру. Мертвые гаснут своим чередом. Никто не помогает им, никто не замечает, если не считать тех, кто был с ними рядом в краткое дольнее время. Когда исчезают они с лица земли, боги не нависают над ними, нет того призрачного, свистящего звука. Я замечаю это – тишину вокруг смерти. Они удалились – те, кто следил за смертью. Их нет, и они не вернутся.
Моему супругу повезло с ветром, вот и все, и повезло, что его люди храбры, повезло, что он победил. Запросто могло сложиться иначе. Не стоило приносить нашу дочь в жертву богам.
Моя нянька находилась при мне, когда я родилась. В ее последние дни непостижимо было, что она умирает. Я сидела с ней, мы беседовали. Раздайся хоть самый малый плач, мы бы услышали. Но ничего, ни единый звук не провожал ее к кончине. Тишина – или обычные звуки из кухни, или лай собак. А затем она умерла, затем перестала дышать. Для нее все завершилось.
Я вышла вон и глянула в небо. И осталась мне лишь заветренная речь молитв, ничего больше. То, что когда-то имело силу и добавляло смысл всему, теперь сделалось брошенным, чужим, со своей печальной, хрупкой мощью, со своей памятью, запертой в его ритмах, о красочном прошлом, когда наши слова возносились и исполнялись. Ныне же эти слова – в ловушке времени, в них одни лишь пределы, попросту отвлечения, они столь же мимолетны и однообразны, как вдохи и выдохи. Они питают в нас жизнь, и, вероятно, за это – хотя бы в сей миг – нам следует быть благодарными. Больше ничего нет.
* * *
Велела убрать и похоронить тела. Сейчас сумерки. Можно открыть ставни на террасе и посмотреть на последние золотые следы солнца и на стрижей, что описывают дуги в воздухе, движутся, словно хлысты, в плотном наклонном свете. Воздух густеет, я вижу размытые очертания. Не время для резкости – резкость мне больше не нужна. Не нужна ясность. Мне нужно время, как нынешнее, когда каждый предмет перестает быть собой, сплавляется с тем, что рядом, как и всякий поступок, совершенный мной и другими, прекращает быть отдельным и ждет, когда кто-нибудь явится рассудить или записать его.
Ничто не устойчиво, не замирает в этом свете ни один цвет; тени становятся темнее, и земные предметы сливаются друг с другом, как сливаются в единый поступок действия, которые мы все совершили, и все наши крики и жесты сплавляются в единый крик, единый жест. Утром, когда свет омыт тьмой, мы вновь встретимся с ясностью и отдельностью. А пока же место, где живет моя память, – сумрачно, неопределенно, смягчено рыхлыми, размытыми кромками, и этого пока достаточно. Может, я даже посплю. Знаю, что в полноте дневного света моя память вновь обретет отчетливость, станет точной, прорежется сквозь происшедшее, как кинжал, лезвие которого наточили для дела.
* * *
В одной пыльной деревне за рекой, ближе к синим горам, жила женщина. Была она старой и неприятной, но обладала силами, недоступными прочим. Попусту она их не тратила, доложили мне, и обыкновенно вообще не желала их применять. У себя в деревне она частенько платила самозванкам, женщинам старым и бывалым, как и она сама, – женщинам, что сиживали при входе в дома, щурясь на солнце. Старуха платила им, чтобы они изображали ее и морочили головы посетителям – пусть те думают, будто самозванки наделены силами.
Мы наблюдали за той старухой. Эгист, мужчина, который делит со мной ложе – и разделит со мной это царство, – научился при помощи каких-то людей, что были под его влиянием, различать среди старух подсадных, лишенных всяких сил, и ту, настоящую, что могла, когда хотела, пропитать ядом любую ткань.
Всяк облаченный в такую ткань застывал, лишался возможности двигаться, а также делался безгласным, совершенно беззвучным. Не мог вскрикнуть, каким бы внезапным ни было потрясение или свирепой боль.
Я замыслила напасть на супруга, когда он вернется. Буду ждать его, сияя улыбкой. Бульканье, какое услышу я, когда перережу ему глотку, сделалось мне наваждением.
Стражники привели старуху. Я велела запереть ее в глубине дома, в кладовой – в сухой комнате, где хранят зерно. Эгист, в ком способности убеждать развиты были так же, как силы старухи приносить смерть, знал, что́ сказать той женщине.
И Эгист, и старуха действовали скрытно и коварно. Я же держалась прозрачности. Жила на свету. Отбрасывала тени, однако в тени сама не обитала. Готовясь, я оставалась полностью освещенной.
Мне требовалось простое. У моего супруга был сетчатый хитон, в котором он иногда выходил после ванны. Я хотела, чтобы старуха вплела в него нити – нити, которые смогут обездвижить моего супруга, когда хитон коснется его кожи. Нити должны быть как можно незаметнее. И Эгист предупредил ее, что мне нужна не только хитрость, но и безмолвие. Я желала, чтобы, когда буду убивать Агамемнона, никто не услыхал его криков. Желала, чтоб не издал он ни звука.
Поначалу старуха прикидывалась, что она самозванка. И хотя я не показывала ее никому, кроме Эгиста – он же носил ей еду, – она догадалась, зачем ее привели, догадалась, что привели ее помочь в убийстве Агамемнона, царя, великого, кровожадного воина, победоносного, который вскоре вернется домой. Старуха считала, что боги на его стороне. В намерения богов не желала вмешиваться.
С самого начала я знала, что легко с нею не будет, но знала и вот еще что: с теми, кто держится старой веры – веры, что мир неизменен, – иметь дело проще.
Поэтому я и решила привлечь ее. Время у меня было. Агамемнон вернется через несколько дней, и меня предупредят о его приближении. Тогда у нас уже были лазутчики в его лагере – и люди на холмах. Я все предусмотрела. Продумала каждый шаг. Слишком во многом полагалась я прежде на удачу, не учла многих чужих капризов и нужд. Слишком многим доверилась.
Я велела вывести пойманную нами ядовитую каргу к окну в высокой стене коридора, рядом с комнатой, где ее содержали. Приказала поставить это злобное создание так, чтобы виден ей был обнесенный стеной сад. Знала, что́ она там увидит. Увидит свою золотую внученьку, свет ее жизни. Мы забрали ребенка из деревни. Внучка тоже была нашей узницей.