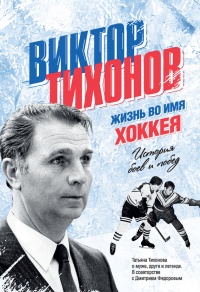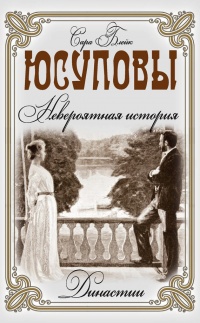Книга Шахматы без пощады: секретные материалы... - Виктор Корчной
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Людям с многовековой родословной можно позавидовать. Такой человек твердо стоит на земле. Он уверен в себе, он испытывает гордость за себя и своих предков. В то же время, чтобы быть достойным своих предков, он чувствует своим долгом впитывать в себя культуру человечества.
В наше время, когда войны перемежаются с социальными потрясениями, мало кто может похвастаться разветвленным генеалогическим древом. Мне особенно не повезло. Я не знал даже своих дедов. Как рассказывали, один из них, Меркурий Корчной был управляющим имением где-то на юге Украины. Потом он ушел на войну — Первую мировую, и сгинул. Как-то в Нью-Йорке я встретил своего однофамильца. Не в этом ли городе пустил корни Меркурий?
Другой дед, с материнской стороны — Герш Азбель, довольно известный еврейский писатель. Он прожил большую часть жизни в местечке Борисполь под Киевом. О его жене Цецилии, моей бабушке, мне было известно только, что в 1919-м году ее походя проткнул штыком деникинский солдат… Мне довелось знать только свою бабушку — мать отца, польско-украинских аристократических кровей, урожденную Рогалло. О ней я еще расскажу.
Мой отец родился в Мелитополе в 1910 году, мать — в Борисполе в том же году. В конце 20-х годов на Украину уже надвигался ужас проводимой большевиками коллективизации. Позже, в конце 30-х годов было подсчитано, что кампания коллективизации обошлась Украине примерно в одну пятую часть загубленного населения: более 6-ти миллионов погибло от голода, замучено в тюрьмах, расстреляно. А пока что более-менее обеспеченные бежали с Украины. Так примерно в 1928-м году семьи моего отца и матери оказались в Ленинграде. Не знаю, где они познакомились. Кажется, мой отец посещал одно время занятия в консерватории, где много лет обучалась моя мать.
Я родился в 1931 году, во время первой «сталинской пятилетки». Семья была очень бедной. Впрочем, ничего особенного: власти регулярно проводили чистки, в первую очередь, чистки карманов населения, — чтобы добиться полного равенства не на словах, а на деле. Так оно и было: накануне войны десятки миллионов семей жили в полной нищете. Мне, ребенку, пришлось нелегко. Моя мать Зельда Гершевна (я называл ее просто Женя) была женщиной взбалмошного характера, и семья довольно быстро распалась. Я остался у матери, но скоро ей стало невмоготу меня кормить и воспитывать, поэтому она отдала меня отцу. Моя мать была дипломированной пианисткой — она окончила консерваторию, но ее бедность поражала меня: за десятки лет трудовой жизни она так и не смогла приобрести нормальную мебель. В ее комнате не было ничего, кроме старой кровати, стула, табурета, шкафа и осколка зеркала. Даже пианино, рабочий инструмент, она всю жизнь брала напрокат. Десятки раз она потом повторяла, что нам пришлось расстаться из-за того, что ей нечем было меня кормить, и это стало трагедией ее жизни.
У отца был мягкий характер, у матери — резкий и драчливый. Они стали врагами. За пять лет мать шесть раз обращалась в суд, чтобы ей вернули ребенка, но суд неизменно присуждал, чтобы я находился у отца. Отец был членом компартии. Мать пошла в партком фабрики, где он работал, и наябедничала, что отец ходит в церковь, молится. Дело это обсуждали на собрании. Коллеги любили моего отца. Они не допустили его исключения из партии.
Я познакомился с родственниками отца. Дворяне, в прошлом богатые, они теперь, как и все, были равны перед Богом и Сталиным. Впрочем, я все же помню старинную мебель, красивые книги, патефон и пластинки с классической музыкой и интересными песнями. И беседы, которые касались не только вопроса — как прокормить семью в ближайший месяц…
Мой отец был преподавателем русского языка и литературы. Кроме того, Лев Меркурьевич окончил институт холодильной промышленности и работал на кондитерской фабрике. Там он познакомился с женщиной, которая потом стала его женой и моей матерью. Роза Абрамовна продолжала опекать меня как родного сына несколько десятков лет.
Отец уделял серьезное внимание моему воспитанию, и, хотя в доме приходилось считать каждую копейку — бывало, ему не хватало на проезд в трамвае, — он счел необходимым с первых же лет моей учебы в школе нанять преподавателя для занятий на дому немецким языком. С его помощью я был записан в библиотеку, брал книги на дом и под опекой отца перечитал таким образом всю литературу, доступную для юношества. Ф. Купер, Жюль Верн, А. Дюма и В. Гюго, Сервантес, Диккенс, Свифт, Джек Лондон, Марк Твен, О’Генри — все было перечитано мной, девятилетним. Отец и научил меня играть в шахматы — мне было тогда шесть лет. Я с увлечением сражался с ним и другими членами семьи. Иногда в детском журнале помещали партии гроссмейстеров. Мы с отцом пару раз пытались разобраться, как играют гроссмейстеры, но успеха не имели.
* * *
А теперь я позволю себе страничку воспоминаний о самом близком мне в детстве человеке.
Моя бабушка любила меня. Я жил у нее с двухлетнего возраста. Она одевала и раздевала меня, пока я сам не научился это делать. Она научила меня молиться перед сном; укладывала меня спать, приговаривая по-польски. Она водила меня в костел, где мы вместе молились. Единственная в моем окружении, бабушка не играла со мной в шахматы. Она не боролась с моими капризами, но и не потакала им. Суровые функции воспитания лежали на моем отце, ее сыне. Я был капризен в еде — в бедной семье такое не принято. Питание было одной из обязанностей Елены Алексеевны, бабушки. Она покупала продукты и готовила еду на керосинке в комнате: до единственной кухни в 13-комнатной коммунальной квартире было метров 80 по темному коридору. А с моими капризами за столом приходилось бороться отцу…
В комнате 4x4 метра мы жили втроем. Бабушка спала на кровати, отец на диванчике, а я — на стульях посреди комнаты. Комплекс отсутствия кровати я сохранил на десятки лет. В 1960 году я на время расправился с обидным воспоминанием детских лет — купил в Риме мебель для спальни и направил ее в Ленинград. К этому эпизоду я еще вернусь.
Идиллию более-менее благополучной жизни нашей семьи разрушила война с Германией. Отец рассудил, что Ленинград находится близко к границе — город неминуемо окажется в огне, в центре боев, а значит, меня нужно вывезти оттуда. Учреждения, заводы, школы эвакуировались в глубь страны — на Урал, в Среднюю Азию. Меня отправили вместе со школой, где я учился. Но мать вскоре услышала, что эвакуация проходит с большими трудностями: поезда перегружены, многие школы застряли на территории Ленинградской области, некоторые подверглись бомбардировкам. Мать отправилась искать меня. Километров в трехстах от города, южнее озера Ильмень она нашла наш лагерь, забрала меня, и мы с ней вернулись в Ленинград.
Мой отец по возрасту не подходил для действующей армии. Кроме того, он был из квалифицированных кадров, в которых остро нуждалась экономика страны. Но фактически все дееспособные мужчины были взяты под ружье. Воинская часть моего отца была отрядом так называемого народного ополчения. Несколько месяцев он проходил военную подготовку. В ноябре он зашел домой из казармы, уже опухший от голода. Больше я его не видел. Как я позже выяснил, баржа с ополченцами попала под бомбежку на Ладожском озере и затонула…
С начала войны были введены продовольственные карточки. Для четырех категорий потребителей. Самая большая норма полагалась военным. Потом шли «рабочие и служащие», затем «дети». Самая скудная норма была для «иждивенцев».. Довольно презрительное слово… Мясо, жиры, сахар, макаронные изделия, крупа имели месячные нормы, хлеб — ежедневную. Когда в середине месяца человеку уже нечего было поесть, оставался хлеб. А норма с каждым месяцем все уменьшалась. В голодную зиму 1941-42 года норма для иждивенцев была 125 граммов хлеба.