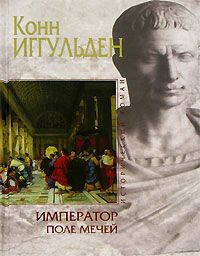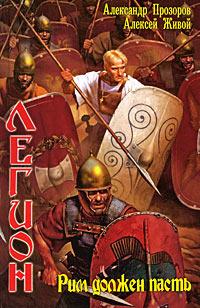Книга Фабиола - Николас Уайзмен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Как! — прервала мать сына, — неужели Кассиан христианин и узнал христианина в тех мыслях, которые ты высказывал? Я выбрала его школу потому только, что о ней говорили много хорошего, и теперь благодарю Бога, что так случилось. Мы живем в страшное время, мы окружены опасностями, мы в своем собственном отечестве должны действовать тайно, в своем собственном доме должны опасаться врагов, мы едва знаем немногих из братьев наших по вере. Если бы открылось, что Кассиан христианин, его школа просуществовала бы недолго. Но продолжай: неужели его опасения были серьезны?
— Кажется, да. Пока некоторые мои товарищи чистосердечно хвалили сочинение, в меня впились черные глаза Корвина, а губы его кривились в злобной усмешке.
— А кто он?
— Он самый старший и самый сильный из учеников нашей школы, но по правде сказать, он же и самый глупый. Конечно, он не виновен в своем тупоумии, но беда в том, что он еще и зол; он ненавидит меня, и право, я не знаю, за что. Когда мы вышли из школы и шли по берегу реки, он при всех вдруг стал поносить меня. «Так вот, Панкратий, — сказал он мне, — сегодня мы последний раз встретились с тобою в школе: мы в один день покидаем ее. Нынче ты возвысился над нами, всех нас втоптал в грязь и посмеялся надо мною; я этого не забуду и еще рассчитаюсь с тобой. Я запомнил все высокопарные слова, которыми набито твое сочинение, и непременно перескажу их отцу. Мой отец, как ты знаешь, префект, и готовит сейчас нечто такое, что коснется тебя».
Мать вздрогнула, но сын продолжал:
— Я горел желанием схватить его за горло и швырнуть на землю; сил у меня хватило бы, я знаю... Это было жестокое испытание!...
— Ну, что же дальше? Успокойся. Скажи мне, чем все кончилось?
— В эту минуту подошел Кассиан. Он хотел наказать Корвина, но я попросил учителя не делать этого.
В галерею вошла служанка; она зажгла лампы, мраморные и бронзовые канделябры. Яркий свет озарил Люцину и ее сына Панкратия.
Люцина нежно поцеловала сына; чувство материнской гордости — гордости вполне понятной, когда после нескончаемых забот и бессонных ночей мать видит своего сына почти взрослым, умным и красивым юношей, — многое было в этом поцелуе. Но было в нем еще одно чувство, владевшее Люциной, глубокое и возвышенное. Недалек уже был тот день, когда сын ее, достигнув совершеннолетия, должен будет принять опасный сан священника.
То было время страшных гонений на христиан, и священниками из них становились лишь самые мужественные и стойкие. Сан не защищал от опасностей, напротив — принимавшие его заранее обрекались на неминуемую мучительную смерть. Наряду с многочисленными обязанностями — забота о больных и бедных, обращение в христианство язычников — была у священников еще одна, пожалуй, самая главная обязанность: в минуту крайней опасности, в решающий момент, они показывали пример: проповедуя Евангелие, первыми погибали в цирках, раздираемые зверями на потеху жадной до зрелищ толпы римлян.
Люцина знала, что многие матери-христианки лишились всех своих детей; она сама понесла страшную утрату: муж ее был замучен но приказанию императора.
Панкратий, взглянув на мать, был поражен выражением ее лица. Лицо Люцины просветлело, оно отражало торжественную ясность и спокойствие. Ее глаза блестели кротким светом. Юноше словно передалось состояние Люцины; он опустился к коленям матери и обнял ее.
— Как долго я молилась, чтобы Бог позволил мне дожить до этого дня, — сказала ему мать. — Я счастлива от того, что ты послушен, добр, любишь Бога и ближнего. Ты равнодушен к богатству и не тщеславен, твоя любовь к беднякам и обездоленным делает меня еще более счастливой. Я вижу, что ты наследовал добродетели твоего отца-мученика. Нынче ты покидаешь школу. Теперь ты уже не ребенок, а мужчина, взрослый человек, ты должен вести себя так, как подобает мужчине и христианину. Я уверена, что ты вполне сознательно писал свое сочинение. Да, счастлив тот, кто погибает за свою веру, за свои убеждения, словом, за то, что считает истиной!
— Мне кажется, что я понимаю это и чувствую, что готов умереть за свою веру, — тихо сказал Панкратий.
— Ты настоящий сын своего отца. Хочешь ли во всем подражать ему?
— Конечно, мама. С раннего детства я слышал рассказы о его жизни, его добрых делах и славной смерти. Каждый год, когда христиане чтут его память и собираются в катакомбах молиться о нем, я чувствую, как рвется из груди мое сердце. Судьба его прекрасна, и я не раз мысленно обращался к нему и просил поддержать меня, чтобы у меня хватило сил и твердости духа пролить кровь за нашу веру.
— Замолчи, замолчи! — сказала мать, невольно вздрагивая. Ведь Панкратий был ее единственным сыном, и после смерти мужа она сосредоточила на нем всю свою любовь. У Люцины был стойкий характер, твердая воля и глубокая преданность своей религии, но она была мать, и сердце ее дрогнуло, когда единственный сын высказал желание умереть.
Мы уже сказали, что римские юноши, не достигшие совершеннолетия, носили на шее небольшой шарик. Люцина сняла его с шеи сына и сказала:
— Ты получил в наследство от отца благородное имя, высокое положение в свете, огромное богатство, словом, все то, что так дорого ценится в обществе, но я обладаю одною драгоценностью, которая дороже всего этого для меня, и надеюсь, для тебя: я хочу передать ее тебе.
Дрожащею рукою она сняла с себя цепочку с ладанкой, вышитой жемчугом и драгоценными камнями.
— Тут хранится кровь твоего отца. Я присутствовала при его смерти, решилась взять эту кровь из ран его и сохранила ее для тебя как святыню...
Слезы прервали слова Люцины; они текли на склоненную голову ее сына, которого она благословила. Панкратий поцеловал ладанку и надел ее на шею. В эту торжественную для него минуту ему казалось, что великий дух отца сходит на него и наполняет его душу новой силой, верой и энтузиазмом. Он чувствовал, что готов, подобно отцу, пожертвовать всем во имя своей веры.
В то самое время, когда Люцина беседовала с Панкратием, другой разговор велся в доме римского патриция Фабия.
Фабий был богат; дом его был убран с тою роскошью, остатки которой до сих пор удивляют путешественников в музеях Рима и Неаполя. Комнаты были огромны; мозаичные полы покрыты персидскими коврами; окна и двери украшены китайскими тканями; мебель обита золотою парчой. Во всех нишах стояли драгоценные безделушки, выточенные из слоновой кости, отлитые из серебра и золота.
Сам Фабий, хозяин дома, представлял собою классический тип тогдашнего римлянина. Полагая, что в жизни не существует ничего, кроме удовольствий, он делил время между веселыми пирами в кругу друзей, зрелищами в цирке, музыкой и чтением лучших поэтов того времени. Он не верил ни в Юпитера, ни в Минерву, очень хорошо понимая, что эти боги есть не что иное, как более или менее изящные статуи; но, следуя обычаю, ходил в их храмы по большим праздникам. Основную же часть дня он проводил в общественных банях.