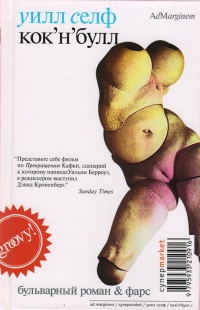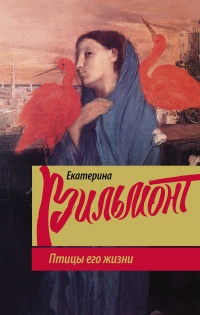Книга Месяц Аркашон - Андрей Тургенев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Я просто спросила…
— Я же тебя просил — дай мне сосредоточиться! Хочешь, чтобы я провалился?!
Нет ничего гаже раздражения. Эту эмоцию не назовешь сильной — в каком смысле бывает сильной ненависть, например, или желание. Раздражение — это такой вариант спокойствия. В раздражении я способен разбить окно, лягнуть проезжающий транспорт, заорать на всю улицу, но оставаться при этом спокойным. В смысле, безответственным. Не беспокоиться ни за себя, ни за последствия, ни за того, кто рядом. Раздражение гадко тем, что просто вынимает из тебя все остальные эмоции, как стекло из оконной рамы. И невозможно понять, куда пропала твоя хваленая нежность. Сидишь перед драгоценным человеком и орешь ему в лицо такие гадости, что ни пером, ни топором.
Алька пожимает плечами. Ссора со мной для нее — не Бог весть что за трагедия. Привыкла. Ее отношение ко мне можно передать словом «терпит». Терпит, как и многих других. Поставила мне за раздражение где-то внутри себя маленький бессознательный минус. Он пойдет в счет, когда Алька будет выбирать, с кем провести следующую неделю.
Я знаю, отчего я вскипел. Лелеять мышцы партнера — один из немногих моих талантов. Да, я не умею стричь газоны и рисовать, чинить унитазы и засыпать порошок в ксерокс — зато остро чувствую, если человек рядом со мной, допустим на диване, неловко разместил свою, скажем, ногу. Такую досаду я умею исправить — одним точным движением. Я всегда знаю, какую часть тела и как надо потеребить девушке, чтобы она задохнулась от счастья. Потопла бы чтобы вся в этом счастье по самые уши души. И вот Алька говорит, что инструмент мой не сработал. Есть от чего сходить в раздражение.
Впрочем, Альку как раз мой инструмент не особо пронимает. Вольная такая птаха. Мужики возбуждаются как из пулемета, а девушке от секса удовольствия — с гулькин чих. Алька может переспать, насколько я понимаю, с любым самцом, к которому не испытывает отвращения. Если он проявит инициативу — нет причин жеманиться. А нет — так и нет. Алька, по-моему, не придает сексу серьезного значения. Трахается, что ли, для порядка.
— Извини, Алька, — говорю я. — Прости, пожалуйста. Звонок был проблематичный, но никакой катастрофы нет, я все пойму завтра и тебе расскажу.
— Это было до звонка!
— М-м… Я имею в виду, что сейчас я сорвался потому, что думаю о звонке. А тогда я не заметил, что ты напряглась… Почему ты напряглась?
— Мне показалось, что сейчас пролетит пуля.
— Пуля?!
— Маленькая такая обычная пуля. Круглая, или какие они…
— Пули продолговатые, — говорю я. — Хотя, наверное, разные бывают. Как презервативы — с усиками, с запахом. И тебе показалось, что пуля пролетит — где?
— Между нашими сигаретами.
— Даст то есть нам прикурить?
— Да, и сигареты зажгутся. Она их коснется самыми своими боками… Самыми микронами. Даже, может, не коснется, а пролетит мимо, воздух разогреет, и сигареты прикурятся.
— Между ними пуля пролетела, — пропел я на шальной мотив.
— Вслед за нею кошка прошмыгнула, — поддержала Алька.
Мы, не сговариваясь, смотрим на фотографию Прикуривающей Пары. Не верится, что между кончиков сигарет может прошуршать пуля.
— Для кино начало хорошее. Заходят двое в кафе, видят эту фотку, копируют композицию… И влипают в мистическую историю. А что дальше с пулей?
— О ее судьбе я не думала. Я думала о своей судьбе. Как бы я перетрухала, если бы мимо моего носа пуля пронеслась на своей пульной скорости. А пуля улетает себе в окно…
— Оставляя в стекле аккуратную дырочку.
— Или разбивает его. И на героев хлещет дождь… Это какого года снимок, как ты думаешь?
— 53-го.
— 53-го?! — поражается Алька моей точности.
— Шутка. Я просто вспоминал недавно смерть Сталина…
— Господи, в какой связи? У тебя богатый внутренний мир.
— В связи с телефонным звонком. Неважно. Ну, мне кажется, пятидесятые. Мне кажется, тогда такие шляпы носили… У Грегори Пека в «Римских каникулах», помнишь, такая шляпа?
— Не помню, — равнодушно говорит Алька. И добавляет задумчиво: — А они такие молодые.
Франт и фря действительно выглядят молодо. Лет сорок на двоих.
— Лет по двадцать каждому, — говорит Алька, — значит, сейчас им по семьдесят.
Я удивляюсь этой идее. Почему-то кажется странным, что герои фотографии вообще существовали в реальности номер один. А уж предположить, что кто-то из них жив… и вполне может жить на соседней улице… Или быть тем человеком, в которого попадет пуля, которая пробила стекло: после того, как зажгла наши сигареты…
Дождь изгаляется и морочит. Нельзя понять, прекратился он или нет. Когда мы выходим из кафе под мелкую морось, полдюжины пожилых французов отважно располагаются за уличным столиком, не спрятанным под полосатым тентом. Но время от времени ветер приносит густую охапку холодных капель. И вообще воздух влажный и неприветливый. Местные говорят, что настоящее лето заканчивается в Париже после Вознесения Богородицы. А Богородица вознеслась уже полторы недели назад.
Перед Бобуром довольно пустынно. Из коллег, мастеров-на-разные-руки-и-ноги, на площади торчит только утлый китаец, пишущий за 2 евро иероглифами любое европейское имя. В трех разных местах за эти дни мы заказали трем разным китайцам имя «Александра»: каждый нарисовал по-своему. Ни одного иероглифа не совпало.
Я выбираю, как и вчера, угол площади, примыкающий к шумной улице с магазинами. Где торчит, как перископ циклопической субмарины, высокотехнологичная вентиляционная труба. Я, чтобы быстрее войти в ритм (так надо прыгать в ледяную воду, не успевая испугаться мороза), бросаю куртку на мокрый асфальт и несколько раз высоко подпрыгиваю. Оглядываюсь на Альку: ее моя бодрость не веселит. Я поднимаю куртку, вытаскиваю из чемоданчика реквизит, кладу куртку на чемоданчик и приступаю к делу. Вы никогда не видели, как я танцую? Рассказываю. Представьте, что каждая из частей человека — будь то бедро или голова — начинают жить, во-первых, самостоятельно и очень, во-вторых, бестолково. Они движутся болезненными рывками — каждая по своему маршруту. Человек похож на пьяного, который падает-падает в лужу, но никак не упадет. Цепляется в последний момент за воздух и тотчас валится в другую сторону. Еще он похож на сенокосилку, в веретено которой угодила металлическая птица. Однако если вы понаблюдаете за конвульсиями этого человека больше двух минут, то поймете, что в его движениях есть какой-то таинственный — и, смею думать, завораживающий — ритм. Этот человек, короче, я и есть.
Первые 5-10 минут такого выступления — главный кайф. Пока я еще не начал программу, а просто разминаю суставы. Ощущение, что танец только начинается, сродни ощущению, что вся жизнь впереди. Пока люди вокруг еще не поняли, что перед ними артист. Пока они думают, что я — сумасброд. Пока среди взглядов много настороженных-осуждающих… Приятно осознавать, что ты существуешь в другой логике. Это похоже на свободу.