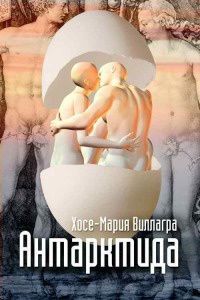Книга Последнее странствие Сутина - Ральф Дутли
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нет, мне нужно… в ателье… нужно… больше ничего нет… пока они не пришли… ты знаешь…
Никто не способен его удержать. Ма-Бе, ее ругань, ее угрозы – бессильны. Он должен. Провожать не нужно, резким движением руки он отметает предложение пойти с ним. Он никому не позволял видеть это. Он тащится в ателье, в тот маленький домик у входа в Большой парк, при дороге в Пуан. И он хочет еще заскочить в крохотную комнатушку к месье Крошару, столяру и мэру Шампиньи, там тоже должно быть несколько его холстов. Наполовину парализованный болью, превозмогая себя со стоном, похожим на собачий визг, который давно стал для него привычен, прижимая ладонь к животу. Есть еще дело, которое важнее всего остального.
Мигом – спички, несколько газет, быстро смять, сунуть в камин, где в этот жаркий июль еще не остыл пепел с прошлого раза, когда его охватила прежняя яростная жажда разрушения. Скорее выволочь холсты, окинуть напоследок яростным взглядом и выбросить вон – в адово пекло. Словно они виноваты во всем, в несчастье, не знающем конца уже несколько месяцев. Нет, с самого начала войны, с того невообразимого, но ясно предчувствованного дня – 3 сентября 1939 года, заставшего их, его и мадемуазель Гард, в небольшой бургундской деревне Сиври, когда они узнали о вступлении Франции в войну и когда мэр объявил им, бесспорным иностранцам с подозрительным немецким и славянским акцентом, о запрете выезда «впредь до дальнейших распоряжений». Они завязли. Магдебург, Смиловичи. Даже названия мест, где они родились, звучали подозрительно.
Этот старый ритуал, яростное выволакивание, слепое всесожжение, приносил порой маленькое злорадное облегчение. Даже боль в животе, казалось, лицемерно отступала или же позволяла огню себя усыпить. Это был летний костер, распространявший вонь терпентина, неизменный акт, прочно усвоенный в Пиренеях.
И всякий раз в его ушах раздаются вопли торговца Зборовского, умершего больше десяти лет назад:
Нет! Прекрати же ты наконец! Ты убиваешь самого себя!
Ответом всякий раз была презрительная гримаса, которую никто не мог видеть. Художник уже не помнит, когда впервые у него вырвалась эта фраза:
Я – убийца своих картин, разве вы не понимаете? Я вам покажу.
Я… убийца… своих картин.
Не всегда дело решалось именно огнем. Нередко это был нож, яростная атака, слепое вспарывание – только бы не видеть больше этих разноцветных язв на холсте. Устранить их из мира. Ритуал ножа, ритуал ножниц был порывистее, бесконтрольнее. Лезвие глубоко вниз и вправо, потом слепо и резко вверх, наискось, до самого края, потом еще раз и еще, до тех пор, пока ничего нельзя будет разобрать. Пока обрывки холста не станут свисать, как кровавые лохмотья из распоротых животов. Нет, это не приносило удовлетворения, никогда. Ничего, кроме глухой тоски и пустоты. В ритуале огня было больше яростного триумфа: выволакивать холсты, крепко вцепившись пальцами в раму, швырять их в чадящий из-за плохой тяги камин, смотреть, как они ярко вспыхивают, едва языки пламени лизнут масло. Никто не уничтожил больше картин, чем он. Никто.
Ма-Бе, ты меня слышишь? Машина из Шинона уже приехала? Пусть подождет.
Он шепчет. Он ругается.
То, что происходит в этот последний день июля, – лишь одна из многочисленных оргий разрушения, нескончаемое слепое испепеление некой прежней жизни. Эффективность была под вопросом. Он только жаждет избавления, стремится вымести прочь из жизни свои картины и заодно и ту часть себя, которая увязла в них. Самоуничтожитель, самопотрошитель, самосжигатель. Сутин, Хаим.
Никто не понимал ритуала. Никакие художники, никакой Зборовский, ни одна из двух женщин последних лет – ни мадемуазель Гард, ни Мари-Берта. И никто не мог его остановить. Он сам себя не понимал. Парк весь объят огнем у него перед глазами, блики пламени танцуют в его зрачках. Он знает, что так должно быть, вот и все. Но 31 июля 1943 года это не приносит облегчения. После ритуала боль сразу же возвращается.
Осталось еще несколько картин, которые мадам Мулен, скатав в рулоны, тайком перевезла в Париж, чтобы предложить галеристам. Тогда можно будет купить хлеба и яиц, ведь парижский счет заблокирован. И лишь немногие, тщательно отобранные посетители наведывались из Парижа в Шампиньи. Картины последних лет. Две свиньи, валяющиеся в луже, одна розовая, другая – серовато-зеленая от грязи и тины, прямо-таки защитного цвета – некоторые умники возвестят, будто он эдак изобразил солдат вермахта. Надо же такое придумать. Два раза – мать с ребенком, сумрачно-синее, израненное детство, суровые матери, иконы оккупации. Школьники по дороге домой, хлестаемые ветром, бросаемые из стороны в сторону в бурных сумерках, испуганно цепляющиеся за руки друг дружки. Дети на поваленном дереве. Кто спас картины от своего создателя и оккупантов, кто потихоньку отодвинул их в сторону, в тень, подальше от глаз, когда весь парк был охвачен огнем.
Картины, которые он последние месяцы отвоевывал у самого себя и у своей язвы. Прочь, в огонь все, что еще сохранилось. Времени слишком мало. Возможно, это сожжение будет последним. Кремация, слепая бездумная рутина. Огонь – это то, что нужно. После – только пепел и несколько недогоревших деревяшек, остатки рам. Последняя возможность стереть невозможное. Есть еще, правда, несколько картин у мясника, месье Авриля, заложены до оплаты, которая постоянно откладывается, до погашения долга, растущего из недели в неделю. Пусть остаются заложниками. Долг уже не погасить. Ничего не исправить, нигде и никогда.
Ма-Бе, сбегай к крестьянам, попробуй еще разок.
Ничего теперь не выменять, это время закончилось, не стоит и пытаться, в июле все пошло наперекосяк, крестьяне не дают яиц и молока, не хотят видеть эти полотна, на которых белый свет нельзя узнать из-за искореженных дорог, вихляющих, корчащихся деревьев, из-за сплошной коричневой и синей грязи, шрамов и рубцов. Где даже теперь, когда идет война, все не похоже ни на что на свете, разве только свет уже погиб – с последним содроганием, в слепых корчах и муках. Как сплошная, бушующая язва. Но яйца, и масло, и молоко – это золото.
Они понимают: война. Теперь все это нужно нам самим.
Потом Ма-Бе спускается вниз и звонит из хозяйской квартиры в Шинон доктору Ранвуазе, который, к несчастью, решил в этой пустоте июльского месяца отправиться в отпуск, а вернее, уехал добывать пропитание к родственникам в деревушку ниже по течению Луары – теперь, когда разговоры об отпусках утратили смысл. Мешочное бытие. С котомкой за плечами. Его заместитель, доктор Борри, едва бросив взгляд на художника и слегка ощупав живот, назначает госпитализацию. Нельзя терять времени. Срочно в Шинон, в клинику Сен-Мишель. Диагноз художник прекрасно знает сам, уже многие годы они вдвоем – Сутин и его язва. Многие годы у него есть спутница-близнец, которая глумится над ним и мучает его. Черная болезненная тень, накрывающая его снова и снова.
К вечеру приехала «скорая», художник приковылял обратно в дом месье Жерара, горчичная повязка лежит скомканная возле матраса. Поездка в Шинон совершенно выпала у него из памяти, боль снова управляет его телом, заталкивает его в слишком тесную оболочку, уничтожает все, кроме себя самой.