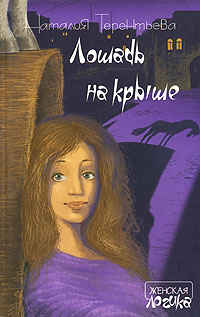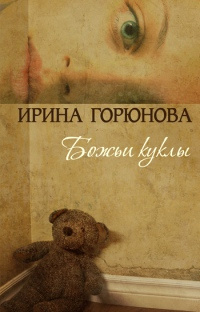Книга Прискорбные обстоятельства - Михаил Полюга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Еще я зачем-то заглядывал в колодец — там было неглубоко, каких-нибудь пять или шесть железобетонных колец, сухо и пыльно, дно было устлано остатками ореховых листьев, из коих высовывалась неизвестно как проскользнувшая сквозь звенья металлической решетки одинокая ветка. Еще один мир, колодезный космос, вселенная со своими законами и правилами бытия-небытия!
— У-у! — гудел я в этот провал и вслушивался.
Но колодец в ответ безмолвствовал — ни отклика, ни эха, ни движения воздуха, как и положено заброшенной мертвой планете, спящей миллионы лет — и еще одну осень и одну зиму.
И оттого мне становилось еще более тоскливо и одиноко. Я шел из сада, как уходят с поля боя, растеряв людей и знамена, а за спиной слетались уже вороны…
Улицами и закоулками я шел на бульвар, и во мне было пусто и глухо, как в высохшем колодце. Мне было жаль колодца — его выкопал некогда, задолго до моего рождения, дед, и, сколько себя помню, был этот колодец не чищен и полон темно-зеленой стоячей воды. В прошлом году я наконец взялся за него: вычерпал воду, очистил дно от песка и ила, — но вода тут же ушла, необъяснимо и странно. Как говорится, благими намерениями… А может быть, это наказание за какой-нибудь мой грех, давний и неведомый мне до срока?
Бульвар — мое любимое место в городе. Два ряда деревьев с расхристанными вороньими гнездами, умолкнувший фонтан с замусоренным дном, давно не крашенные скамейки, относительное безлюдье — так покойно бывает еще только на кладбище или в сквозном лесу на поляне. И напротив, меня бесят базары и вокзалы. И отвращают больницы. Недаром, думаю я, животные и птицы уходят умирать или зализывать раны в потаенные уголки, с глаз долой, а людей свозят в одно отвратное место и приходят смотреть на их агонию, словно в зоопарке глазеют на приморенных обезьян.
Впрочем, сие — эмоции, а ведь бывает еще жизненная необходимость…
И вот я шел по бульвару, подняв воротник и засунув руки в карманы. Безветренно, пыльно, бесснежно, градусник, наверное, на нуле. Я шел и думал: хорошо жить на свете, но и очень печально. Через какие-нибудь пятьдесят лет меня не будет, и это печально; но не менее печальным было бы, будь все это вечно: работа, сухость во рту, боль в спине, необходимость жить и общаться. Наверное, правильнее всего было бы даровать каждому возможность выбора! Выбора — жить или умереть, по крайней мере. Выбора мгновения, когда это настанет. Безболезненного выбора, как у гиперборейцев, когда смерть наступает только от пресыщения жизнью. Думаю, в таком случае и перенаселения не было бы — не такая у нас светлая жизнь, чтобы цепляться за нее изо всех сил! Но выбор — за пределами наших возможностей и потому мучит недостижимостью, как и все на свете, что нам не дано.
Но я, как всегда, отвлекся, — а ведь я шел по бульвару, солнца не было вот уже две недели и потому казалось: силы из меня уходят — с каждым мгновением этого проклятого февраля. Мне все больше хотелось вернуться домой и лечь в постель — так наваливалась и давила утомленность прожитой уже жизни.
«Господи, а что же тогда впереди? — думал я и об этом тоже, точно впереди ничего хорошего уже не ждало меня. — Все одно и то же, и завтра будет то, что было уже вчера. И люди будут такими же, только вырастут другие дома и деревья. И бульвар, может статься, исчезнет — а люди все так же будут ходить здесь, жить и умирать, и все будет однообразно, как круговорот воды в природе».
В кофейне я раздевался и садился у окна — за стеклом, отделяющим меня от бульвара. Здесь было тепло, ненавязчиво звучала музыка. И бульвар оставался рядом со мной — протяни только руку и коснешься какого-нибудь предмета — ветки, дерева, облицовочной плитки фонтана, — но вместе с тем становился как бы виртуальным, будто недавнее прошлое, будто мгновение, только что миновавшее.
«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от самого себя ушел…»
Там, в недавнем прошлом, из невидимой мне тучи вдруг посыпались, полетели редкие продрогшие снежинки, здесь, сейчас, пахнуло от чашки густым горячим кофе. Все смешалось, с каждым мгновением что-то уходило и взамен тут же приходило новое; и это непреднамеренное течение оставалось непрерывным, неожиданным, и звалось оно просто: жизнь.
Новый день зачинался — а старый все не заканчивался во мне…
Признаться, ежедневный утренний кофе, да, собственно, и само посещение кафе с претенциозным названием «Роза пустыни» со временем стало для меня своеобразным ритуалом, — впрочем, как и езда на автомобиле, и чтение по вечерам. В остальном день мог разниться, — но не выпить чашечку кофе, не прокатиться из пункта «а» в пункт «б» и в который раз не перечесть на ночь глядя прозу Бунина или Казакова… Само собой, ритуал рано или поздно должен был перерасти в нечто большее — в образ жизни, а образ жизни — породить предвосхищение предстоящего действа: пути от работы к бульвару, размеренности шага, все тех же неровностей асфальта, скамейки, на которой часто сидел потерявшийся в жизни старик и жевал, жевал деснами мякиш хлеба, соскальзывающей по диагонали с фонарной дуги к земле голодной вороны, мерных колебаний макушек лип в вышине, крохотной, дымящейся коричневым пойлом чашки, разделения на там и здесь, прочерченного витринным стеклом. Душа моя с раннего утра ждала и предвосхищалась. И уже здесь, глоток за глотком, предвосхищение постепенно оборачивалось умиротворенностью: все идет так, как заведено, как должно идти!
А тут еще полетели снежинки — сначала редкие, мимолетные, затем за окном словно вспорхнула белоснежная тюлевая занавеска, и все замерехтело кругом (точнее украинизма «замерехтело» и не отыскивалось теперь). Все заоконное как бы исчезло, укрылось за снежной ретушью, тогда как пространство кафе, напротив, съежилось, сжалось — и я оказался один на один сам с собою. Так в детстве, забираясь под стол и занавешиваясь, отгораживаясь от окружающего мира каким-нибудь покрывалом, внезапно ощущаешь таинственную и упоительную отрешенность одиночества, уют и нежданный покой для души. Кто я, что я, зачем? — не это мучит, а нисходит внезапная благодать единения со временем и пространством, мысли растворяются в ощущениях и чувствах, и оказывается, что быть частицей чего-то вседовлеющего удивительно, приятно и хорошо.
Снег… Деревья… Бульвар — почти пустой, со снегом наискосок, из темного — в светлое… Утренний полумрак кафе… «Меня. Ничто. Теплое. Не коснется. Покроюсь инеем…» Кофе стынет, светло-коричневая пленка поверху напитка превращается в бурую… Горечь во рту не сладостна, но привычна — как данность… Предощущение, перетекающее в сейчас…
Девушка у стойки, пообвыкшаяся здесь, приноровившаяся ко мне и к моему ежедневному ритуалу и потому, наверное, кажущаяся равнодушной, вопросительно поднимает бровь: еще чашку? Естественно, всенепременно — еще этой горькой, невкусной, бодрящей дряни! Девушка молода и некрасива и в то же время красива своей молодостью, плоским животом, молочной кожей, взглядом, за которым — предложение и вопрос. Девушка — в начале жизни, еще не истоптана, еще в уверенности, что не по ней катит каток бытия — это она идет в светлое будущее, легко и свободно. Она еще не раздавлена безжалостным колесом… И в этом незнании истинной стороны ничтожного существования человеческого — ее прелесть, как в цветке, который только готовится распуститься.