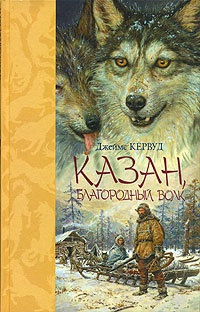Книга Перешагни бездну - Михаил Иванович Шевердин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Цена предательства! Дай волю скорпиону — будет жалить всю ночь до утра. Вот ты какой, царь!
Удивительно! Гулам Шо всё еще не понял.
— Давай своих воинов, господин Сахиб Джелял. Давай своего Малика Мамата. Времени мало. Угощение потом, поход сейчас! А то придут англичане и спросят… Да и с вас, господин Джелял, спросят: а что тут, в Мастудже, делает господин, именующий себя Сахибом Джелялом? Что ему здесь понадобилось?
Белуджи уже вплотную подошли к Гуламу Шо, и он оказался совсем стиснутым в куче людских тел.
— Э-э! Потише вы! Я — царь!
— Ты царь, пока получаешь от англичан подачки и прячешь в сундук всадников святого Георгия. Подхалим ты и прихвостень их. Хватит разговоров!
Гулам Шо не оказал сопротивления. Он ослабел и, если бы его не подхватили под руки, сполз бы на пол.
— Тут во дворе яма, зиндан. Можете бросить его туда… Я уезжаю. А вы, Малик Мамат, оставайтесь во дворце до утра и никого не выпускайте и не впускайте. Да поищите по углам и закоулкам, не прячется ли кто здесь?
Своих белуджей-телохранителей Сахиб Джелял знал хорошо. Остановить их, когда они видели что-либо ценное, было невозможно. Ом не дал бы и ломаного гроша за участь его величества царя Мастуджа Гулама Шо. Но царь не интересовал его больше.
НАД БЕЗДНОЙ
И птица летит обратно в свое гнездо
И лиса умирает головой к своей норе.
Мучили приступы головокружения. Во рту стоял сладковатый привкус крови. Моника плохо переносила высоту, и Молиар бережно поддерживал ее, почти нес на руках. В самых опасных местах овринга рядом оказывался доктор Бадма. Он оберегал малейшее движение девушки.
Откуда-то сбоку и снизу вырывались витые, густые смерчи снега. Колючие крохотные льдинки били в лицо, слепили. Каждый шаг пронзал всё тело болью, точно иглами, от подошв ног в мозг. Воздуху не хватало. Нечем было дышать.
Грудь Сахиба Джеляла сотрясал кашель. Самаркандец держался прямо и гордо, но чувствовалось, что он всё более слабеет. Тогда он останавливался на мгновенье и отдыхал, опираясь на посох, который взял с собой из Мастуджа.
На самых крутых, неверных местах каменистой тропы Молиар тоже начинал кашлять, но он тут же бормотал успокоительно:
— Не бойся, доченька! Боже правый, это «тутек» — болезнь высоты. Больно тут высоко… Главный хребет! Тутеком даже горцы болеют. Кровь из носу течет. Легкие лопаются. Дьявольски высоко. Не бойся! Терпи!
А сам он боялся. Он понимал, что силы и у девушки и у него самого на исходе. Куда, наконец, девался Приют странников? Где проклятая пещера? Здесь должна быть пещера!
Ступая с невероятными усилиями по обледенелой, уползающей из-под ног щебенке, дрожа от озноба, Молиар мог ежеминутно потерять сознание.
Он шептал: «Страх спасает от гибели…» и тянул за собой Монику.
Он подбадривал ее возгласами, заглушаемыми воем и свистом бурана.
Он еще пытался балагурить, выкрикивая: «Везут буйволы, а скрипит повозка!»
Сама Моника не видела ничего перед собой, кроме белой мари. Снег залеплял лицо. Ноги вслепую нащупывали тропу. Если бы не болезненные удары левым плечом о скалу и грохот вырывающихся из-под ног камней, скатывающихся вниз, то вообще не было бы понятно, где они. Страх высоты, испытываемый девушкой, был чисто инстинктивным. Она ведь и понятия не имела ни о том, насколько ненадежен и шаток овринг, ни какова глубина ущелья, по которому они пробирались после перевала. Что падающему с минарета до его высоты!
Если бы неугомонный старый живчик Молиар со своими шуточками, возгласами, понуканиями: «Вперед же!», «Ай, такая молоденькая и уже устала!», «Давай, мышка, шагай!», она, может быть, давно уже бессильно опустилась бы на камни, забилась бы от вьюги в какую-нибудь выемку и заснула. На морозе засыпать нельзя. Но всё равно.
От Мастуджа они поднимались на бессчетное количество перевалов, спускались без конца в пропасти, карабкались, держась за хвост лошадей, падали.
Но Моника бодрилась и даже жалела своих спутников, особенно коротконогого отяжелевшего Молиара, опухшее, посеревшее лицо которого, дрожащие пальцы говорили об усталости и изнеможении. Он так ужасно хрипел на крутых подъемах. Он ничем не походил на вылощенного, надушенного дорогим одеколоном женевского Молиара, щеголявшего фраком и ослепительным пластроном, или бодрого, живого, как ртуть, проныру, восточного коммерсанта, каким он представал перед обитателями пешаверского бунгало.
И как он ни крепился и бодро ни восклицал: «Мы еще не такие Гиндукуши одолевали!», стало очевидно, что он еле держится на ногах от усталости. Исподтишка он затягивался из маленького кальяна, который всегда держал за пазухой. А курил он при первом удобном случае, стараясь взвинтить себя. Сладковатый запашок выдавал его пристрастие к гашишу.
Доктор Бадма не раз предостерегал его: «Выдохнетесь. Очень же вредно». Но старик не выдыхался, шагал и шагал, хотя теперь уже все видели, что он стар, сколько бы он ни петушился и ни задирался.
— Это ленивому и облако — груз, ну а мы!..
Обладавший поистине тибетской способностью противостоять любому утомлению, доктор Бадма, по-молодому подтянутый, мускулистый, ловкий, не жаловался на дорогу, но и он на крутых спусках шел очень медленно. Вероятно, он не хотел оставлять одним Сахиба Джеляла, который всю дорогу по горам был все такой же прямой, надменный, медлительный, как всегда.
— Медлительность хороша в храме, — пошутил доктор Бадма. — В горах она ни к чему. Из нее похлебку не сваришь.
Но Сахиб Джелял оставался самим собой и здесь, на шатких оврингах. Он даже спотыкался величественно, как подобает вельможе. И, пробираясь по скользкому гололеду над пропастью, он успевал разглядеть в белесой мгле вьюги далеко внизу могильные холмики и каменные надгробия и благочестиво провозглашал: «Мир с вами, жители могил! Увы, не удалось вам пройти здесь живыми!»
Доктор понимал, что Сахибу Джелялу такое путешествие просто не под силу. Рана, полученная в далекой Аравии, давала себя знать и делала непереносимой высоту и разреженность воздуха перевалов Вахана.
Когда снежные пики и ледники оказались за спиной и путники вступили в Афганский коридор, им пришлось отказаться от проводников и вьючных лошадей, Сахиб Джелял почувствовал себя просто плохо. Годы назойливо напоминали о себе. «Время безжалостно!» — бормотал он. Даже последний раз, когда он шел с Памира на юг, ничего подобного не было.
И тем не менее, хоть сердце колотилось