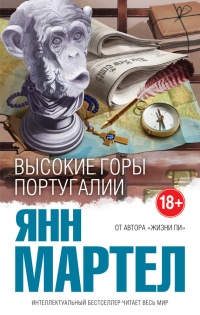Книга Река без берегов. Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга первая - Ханс Хенни Янн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ты гораздо обходительнее, чем был в молодости я, — сказал он, явно растроганный подарком. — Красное вино — средство против недомогания. Теперь я понял.
Пока он с удовольствием рассматривал бутылку, я нетерпеливо спросил:
— А где же Гемма?
— Видишь ли… Да, вспомнил… — он наконец отвлекся от бутылки. — Она, кажется, говорила мне, что сегодняшний вечер проведет у тебя.
— Она не у меня, — сказал я почти беззвучно.
— Ну, значит, у кого-то другого, — невозмутимо предположил он.
— Да, конечно, у кого-то другого, — повторил я.
На мгновение у меня перехватило дыхание. Но я сумел скрыть от него этот внутренний душевный порыв.
— Пожалуйста, — попросил я немного погодя, — не говорите ей, что я был здесь.
— Не скажу, — улыбнулся он. — Маленькие тайны — острая приправа для взаимной привязанности.
— Согласен, — кивнул я. — Маленькие тайны — приправа для взаимной привязанности. А как насчет больших тайн?
— В них человек тоже нуждается, — сказал отец Геммы, — и уклониться от них не может; но они опасны. Между двумя друзьями или между двумя любящими всегда существует остаток не-откровенности. Исчезнуть он может, я думаю, только в результате свершившегося преступления… настоящего преступления или губительного выплеска исступленности… или того и другого вместе.
— А правда, что женщины более скрытны, чем мужчины? — спросил я еще.
— Женщины могут умалчивать обо всем, мужчины — только о немногих вещах, — ответил он.
— Спасибо за науку, — сказал я.
— Опыт у меня в таких делах небольшой, — сказал отец Геммы, будто извиняясь. — Солдат на пенсии не особенно разбирается в словах, да и в жизни тоже; запах юфти, лошадиного дерьма и человеческого пота не способствует утонченности суждений.
Я попрощался и ушел.
Мне хотелось кричать; но голоса не было. Холодный уличный воздух ударил мне в лицо. Я совсем забыл, что на улице мороз, и глаза, не подготовленные мыслью к тому, что их ждет, начали слезиться. — Не слушать неопределенных речей. Не допускать недоразумений. — Может, я думал что-то в таком роде. Может, был просто опустошен. Я ухватился за прутья какой-то садовой решетки. Стоял там, раненный ложью. Но я не чувствовал своего ранения. Я только не мог решить, куда теперь податься. Мне не хотелось никуда. Моя воля угасла. Я ничего не ощущал, ничего не думал. Оцепенение сбраживалось в моих венах. — Я, наверное, все-таки прошел несколько шагов до нашего дома, не упав. В темноте с трудом расшифровал большие золотые буквы над воротами; ТОРГОВЛЯ ЛОШАДЬМИ ГЁСТЫ ВОГЕЛЬКВИСТА. Это было первое и самое трудное мое достижение после того, как я оцепенел. Все прочее далось легче; войти в ворота, открыть входную дверь, сбросить куртку, добраться до залы и обменяться с Тутайном и Эгилем какими-то ничего не значащими словами. Потом — несколько часов дурацких мыслей, которые не сохранились в памяти, не были внесены в гроссбух ответственности. — Я в конце концов отказался от попыток подвести какой-то итог.
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Когда я в следующий раз оказался наедине с Геммой, в спальне, и ликование наших чувств проснулось — я прижимал к себе ее молодое тело, мои руки нащупывали телесные выпуклости, теплую нежную кожу, и живот Геммы круглился под моей ладонью, так что меня уже охватило головокружение, — я внезапно заговорил:
— Почему ты утаила от меня, что беременна? —
Она повела головой. Тело ее повторило круговое движение головы. Она откинулась на подушки и лежала теперь передо мной неподвижно. Никакой мимической игры на ее лице не было. Она просто смотрела на меня. Я не мог сообразить, испуганные ли у нее глаза, печальные или выжидающие. Я опустился перед ней на колени, и теперь она тоже могла оценить мой облик, как я оценивал ее. Вероятно, в это мгновение — когда она всецело от меня ускользнула и я совсем перестал понимать, что в ней происходит, — она рассматривала мою говорящую фигуру, как рассматривают какой-нибудь предмет, испытывая его на целесообразность или пригодность. Без любви, без желания, даже без жалости.
— Что ты, возможно, беременна от Фалтина? —
Ничто не изменилось в ее позе, во взгляде. Наверное, она вообще больше на меня не смотрела. Я как бы погас для ее сознания, стал несуществующим. Она смотрела в обратном направлении, внутрь себя. Спрашивала о чем-то ребенка, который уже был там: как разрастающийся комочек слизи, о котором сейчас заговорили в первый раз, но который Гемма давно воспринимала как свою собственность (поначалу, возможно, против воли и со страхом, потом — с естественной гордостью, присущей всякой оплодотворенной самке), который она любила (хоть вряд ли сознавала это), потому что он находился в ней и потому что она его обертывала своими женскими органами и своей женской душой. Мужчины, отцы, представлялись ей сейчас достойными лишь презрения. Спор между ними не имел к ней отношения. — Возможно, так подсказывала ее простодушная натура.
— Он ведь был до меня твоим плотским другом. —
Какое-то время она оставалась в прежней позе, позволяя мне, все еще с раздвинутыми ляжками, стоять на коленях над ее лоном. Потом, размахнувшись, с мужской силой ударила меня по лицу. Я был настолько к этому не готов, так мало способен что-то сообразить или последовать инстинктивному порыву, что, получив пощечину, даже не шелохнулся. Или, может, поддавшись приступу слабости, уронил руки. Я ничего не предпринял, чтобы защититься от ударов, которые посыпались на меня сразу после первого. Кулаки методично обрабатывали мою грудь. Одновременно — или между ударами — рот Геммы изрыгал ругательства. Она не кричала; может, даже говорила тихо. Но отчетливо — обдуманно, как мне показалось, — присоединяла один слог к другому.
— Трус. Шелудивый кобель. Подлец. Бесчувственная скотина.
Именно эти слова обратили меня в бегство. Обороняться я все еще не мог. Мозг отказывался дать хоть какое-то объяснение случившемуся. Я очутился в эпицентре катастрофы, определить причины и масштаб которой было не в моих силах.
Я выскочил из постели. Гемма — следом. Она повторяла оскорбления. Гнала меня перед собой, и мое бегство давало ей повод вновь и вновь швырять в меня словечко «Трус». (Мне в детстве всегда мешало что-то — если и не болезненность, то сознание собственной слабости. Я не дрался с товарищами по играм. Техника кулачных ударов мне совершенно незнакома. Лежать рядом с кем-нибудь на полу и бороться с ним — такого опыта у меня не было даже в раннем детстве.) В тесном пространстве комнаты мы вскоре опять оказались стоящими друг против друга. Раздетые — как прежде раздевались для наслаждения.
— Ты сошла с ума! — сказал я, совершенно выбившись из сил, вне себя.
Тут она вцепилась в меня ногтями, укусила в плечо. Я начал бороться с ней. (То есть делать что-то, совсем мне не свойственное.) Наверное, от боли я вскрикнул. Потому что внезапно в комнате очутились Фалтин, Тутайн, Эгиль. Фалтин — насколько помню, именно он — схватил Гемму сзади, оттащил назад. Тутайн вдвинулся между нами. Я дрожал всем телом. Сухие всхлипы вырывались из моих легких. К ладони прилипла кровь. Яростно пытаясь освободиться от Геммы, я, наверное, поранил ее или себя. Я видел, что Фалтин все еще крепко держит Гемму. Он заломил ей руки за спину. Но у нее даже губы не дрогнули — на ее лице не было ни малейших признаков возбуждения.