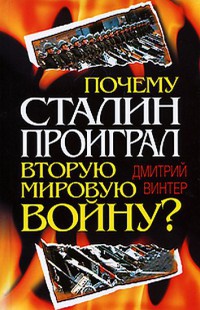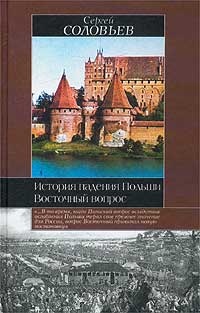Книга Катаев. Погоня за вечной весной - Сергей Шаргунов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вручая мне свою рукопись после обеда, Валентин Петрович сказал:
— Я давно хотел написать роман о войне, еще после Первой мировой собирался. Но меня опередили Ремарк, Ромен Роллан, Олдингтон и другие. Я их читал, не хотел повторяться, отложил эту тему. И вот недавно я обнаружил свои письма той поры, вернулись юношеские воспоминания. Очень необычные юношеские мысли — я хотел войны! Там геройство, увлекательные события! Так начиналось, к чему я пришел — читайте сами…»
«Юношеский роман» вышел в том же году в номерах 10–11 «Нового мира». Письма генеральской дочке Миньоне (Ирен Алексинской) от вольноопределяющегося Александра Пчелкина (Валентина Катаева) из действующей армии. Достаточно заглянуть в архивы — почти все эти сюжеты и наблюдения присутствовали в его фронтовых корреспонденциях, но теперь (рука мастера) все обрело новое измерение, оказалось тонко прорисовано, расцвечено, психологически углублено, усложнено деталями, а сквозным сюжетом военного романа в письмах «дорогой Миньоне» стала тоска по другой, по-настоящему дорогой сердцу — Ганзе Траян (Зое Корбул), невысокой и кареглазой, с «незначительным и незапоминающимся» облачком лица: «Если я и был влюблен в Миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души безнадежно и горько любил Ганзю… Одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая неописуемо никакая, неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий».
Как и предыдущая воинская книга мовистского периода «Кладбище в Скулянах», «Юношеский роман» — это прозрачно-освежающая реалистическая вещь.
В начале 1920-х годов уже москвич Саша Пчелкин в Одессе забрал свои фронтовые письма у умирающей генеральской дочки Миньоны…
Катаев вновь окунулся в то время, когда «превращение исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро», и вслед за целованием креста и Евангелия его отправили «на позиции» — под обстрелы и ядовитые газы. «Творчески перерабатывая» — сокращая, расширяя, компилируя — послания Алексинской, он пытался передать, как менялся на войне, пока внутренне метался от животного ужаса к жестокому азарту, от мечтательного романтизма к беспросветному унынию, и обратно… «Мои снаряды угодили в скопление немцев, которые тут же разбежались, оставив на месте несколько убитых… Чувствую себя прекрасно. Даже не очень одиноко. Огрубел. Ругаюсь нецензурно и курю махорку. Зато поздоровел. Колю дрова. Хожу по воду. Да! Во время ночной тревоги впопыхах надел правый сапог на левую ногу, а левый на правую. Так и провел возле орудия весь бой».
Война дьявольски глубоко впивается в память деталями. Над орудием сооружена «арка из хвойных веток и над ней буквы, сплетенные тоже из хвои: Б. Ц. X. (Боже царя храни)»; изнурительная чистка орудий — «самое ужасное следствие войны»; солдаты в песке отливают ложки из раскаленного алюминия; а это кровавый солдатик трясет оторванными кистями («у него в руках взорвалась дистанционная трубка, которую он свинтил с неразорвавшегося немецкого снаряда»); «белобрысый шпион, копающий собственную могилу под наблюдением двух стрелков»; битва батарейцев со вшами, выловленными в складках гимнастерок («Мне и сейчас, уже старику, неприятно вспоминать») и «вереница телег с почерневшими трупами отравленных газами»… Бросок из белорусских лесов на равнины Румынии, где под обстрелом уже собирался выбежать из окопчика, но отправил вместо себя семнадцатилетнего новобранца, который тотчас был убит, а затем «кто-то из орудийной прислуги» выкопал из земли «сгусток запекшейся крови и вынес его на лопате как бы нечто вроде крупной темно-красной печени». И там же — венгерский кавалерист, в которого направил снаряд, увидев в стереотрубу и заорав телефонисту команду бить по цели…
«Я перекрестился, как бы желая изгнать из себя дьявола». А рядом со всем этим адом, в котором выживший неизбежно ощущает себя чертом, восторг по поводу «национальной гордости» — громадного аэроплана («До сих пор нигде, кроме России, нет такого»): «Вы, наверное, видели в «Ниве» или каком-нибудь другом журнале фотографию государя императора в походной форме на борту «Ильи Муромца»: держась одной рукой за поручень, он стоит на фюзеляже и своими лучистыми глазами смотрит с улыбкой прямо в объектив фотографического аппарата — вот, дескать, какой у нас богатырский боевой аэроплан».
Ближе к финалу оглушенный герой скитается 11 дней, догоняя бригаду с напарником, «телефонистом по фамилии Кац». Образ сложен. Это художник из Витебска, друг Шагала. С одной стороны, Пчелкин сочувствует ему из-за приниженного положения на батарее. «Я был единственным человеком, с которым Кац мог позволить себе обращаться как интеллигент с интеллигентом, называя меня «коллега»…» Но сразу и подпускает юморок: «Хотя и без особого удовольствия, но я принял это обращение и сам называл его коллегой. Коллега Кац». И наконец, художественный произвол — привет от упрямца всем возмущавшимся портретной галереей «Вертера», отстаивание права видеть и изображать, как вздумается: «Небритый подбородок, впалые щеки, поросшие волосами цвета медной проволоки, косящий глаз с бельмом, иронически искривленные губы… Все это производило на меня неприятное, чтобы не сказать отталкивающее, впечатление, но приходилось мириться».
И все эти наблюдения и письма «сиреневой барышне» сопровождают «мучительные приливы неразделенной любви» к кареглазой Дюймовочке (в 1982 году жительнице Лос-Анджелеса Зое Ивановне Корбул исполнилось восемьдесят четыре), «черные мысли» из-за утраты веры, пропажи всякого смысла, и исчезающей прежней родины, и предчувствия новых ужасных бедствий…
«Я вытираю высохшей старческой кистью руки, покрытой гречкой, мокрые щеки, вспоминая свою погибшую молодость».
21 августа 1984 года Катаев написал рассказ «Спящий», появившийся в первом номере «Нового мира» за 1985 год.
Короткий и необычайно выразительный, изумительно сделанный. Пожалуй, новый рубеж мастерства…
Человеку восемьдесят семь, а он может так писать, и больше того, находится в развитии!
Катаев, однажды назвавший себя «влюбленным в весь мир», до последнего ходил-бродил каждый день в любую погоду и так же неотступно тренировал нюх и зрение.
«Случилось так, что в связи с каким-то литературным мероприятием мы с ним и Эстер Давыдовной поехали в Бурятию, — вспоминал Семен Липкин. — Вдвоем гуляли по тайге. Он наклонился и сорвал цветок. Спросил с подначкой:
— Вот вы перевели бурятский эпос. А знаете, как называется этот цветок?
— Да. Ая-ганга.
— Имеет какое-то отношение к знаменитой реке?
— Не знаю.
Он глубоко, как собака-ищейка, внюхивался:
— Пахнет лавандой».
Александр Нилин, живший с Павлом Катаевым в одном кооперативном доме, однажды был у него в гостях, когда туда нагрянул Валентин Петрович, впечатливший его тем, с каким любопытством он изучал подробности «обстановки квартиры Павлика, куда пришел он впервые (я потом проверил у Павлика, что впервые): его интересовали и обои, и шпингалеты на окнах, и вообще все, на что я, скорее всего, внимания не обратил».