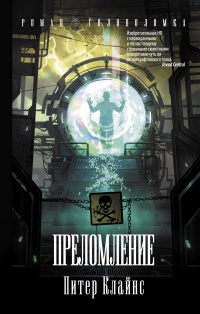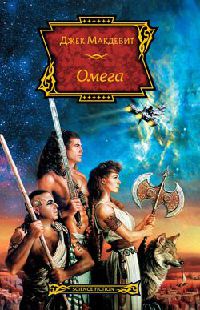Книга Создатель звезд - Олаф Стэплдон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Джон как раз провел несколько недель, изучая лондонскую интеллигенцию. Он сумел проникнуть в кружок Блумсбери, изобразив вундеркинда и позволив одному из известных писателей демонстрировать его своим друзьям как диковинку. Очевидно, он взялся за изучение жизни этих умнейших, но сбившихся с пути молодых мужчин и женщин с присущей ему основательностью, потому что возвратился домой совершенно разбитым. Я не стану приводить здесь подробный отчет о его приключениях, но процитирую его мнение о тех, кто претендует на звание «передовых мыслителей»:
«Видишь ли, в каком-то смысле они действительно на передовой мысли, или, по крайней мере, они первыми уловили ее модное направление. О том, что они чувствуют, о чем размышляют сегодня, остальные будут думать, может быть, через год. И, по стандартам Hom. Sap., некоторых из них действительно можно назвать первоклассными мыслителями. Точнее, можно было бы назвать, сложись обстоятельства иначе. (Разумеется, большинство все равно пустые болтуны, но их я не считаю.) Положение же очень простое и при этом отчаянное. Вот он, центр, к которому стремятся приблизиться все самые умные и тонко чувствующие люди страны, надеясь встретить себе подобных и расширить свой кругозор. И что же? Бедные маленькие мушки попадаются в паутину, в сеть условностей, такую тонкую, что большинство даже не знает о ее существовании. Они вовсю жужжат и воображают, что летают на свободе, хотя на деле каждый из них все прочнее влипает на предназначенное ему место в общей паутине. Да, их считают людьми, совершенно чуждыми условностей. Центр, к которому они стремятся, предписывает отрицание условностей, вызывающий образ мыслей и действий. Но «отрицать» что-либо они могут только в рамках предписанных им условностей. У них всех есть общность вкусов и предпочтений, которые делают их практически неотличимыми друг от друга, даже несмотря на все – довольно поверхностные – различия. Это не было бы столь важно, будь в их вкусах что-то действительно исключительное, но в большинстве случаев они довольно банальны, и те природные способности к меткому определению истинной изысканности, которыми обладают некоторые из них, как правило, заглушаются условностями. И если бы условности были обоснованы, это тоже было не так страшно. Но они гласят только, что необходимо выглядеть «гениально» и «оригинально» и жаждать некоего «нового опыта». Некоторые в группе действительно гениальны и оригинальны – по меркам вашего вида. Некоторые облагодетельствованы даром опыта. Но и гениальность, и оригинальность, и опыт получены вопреки паутине и состоят в основном из трепыхания и бестолкового метания, а не из полета. Влияние всепроникающей условности превращает гениальность в показной глянец, оригинальность – в извращение, делает разум нечувствительным к всякому опыту, кроме самого грубого и пошлого. Я не имею в виду только грубость их сексуальных опытов и пошлость в личных отношениях – хотя их страсть к разрушению старых традиций любой ценой и неприятие сентиментальности привело в конце концов к серии утомительных и грубых крайностей. Я говорю в первую очередь о грубости… наверное, духа. Хотя эти люди часто достаточно умны (для вашего вида), они не имеют представления о более возвышенных материях, на которых можно было бы испытать свой разум. Возможно, так получается по причине духовной недисциплинированности, возможно – из-за какой-то странной, полубессознательной трусости. Они, видишь ли, крайней нежные и чувствительные создания, восприимчивые к удовольствию и боли. В ранние годы, сталкиваясь с чем-то, напоминавшим важный жизненный опыт, они находили его слишком волнующим. И у них выработалась привычка избегать всего, хоть сколько-то на него похожего. И они компенсируют эту настойчивое избегание, впитывая самые незначительные и поверхностные (пусть и чувственные) эмоции, а также долго и со вкусом рассуждая об Опыте с большой буквы, заменяя реальность умственным жужжанием».
От такого вывода мне стало не по себе. Хотя я и не был одним из «них», я не мог отделаться от чувства, что эти слова в какой-то мере относятся и ко мне. Джон, видимо, понял мои мысли, ухмыльнулся и подмигнул совершенно издевательски: «Прямо в точку, да? Не беспокойся, ты не в паутине. Судьба охранила тебя, спрятав в нашей отсталой северной провинции».
Через несколько недель его настроение как будто изменилось. До сих пор он был беззаботным, иногда даже фривольным, как в ходе исследования, так и в замечаниях после него. В моменты серьезности он проявлял искренний, хотя и несколько отстраненный интерес, какой испытывает антрополог, наблюдающий за традициями какого-нибудь первобытного племени. Он всегда был готов говорить о своих экспериментах и спорить о своих суждениях. Но со временем Джон становился все менее общительным, и даже если снисходил до бесед, они получались гораздо более краткими и мрачными. От добродушных подшучиваний и полусерьезной надменности не осталось и следа. Вместо них появилась ужасающая привычка хладнокровного и утомительного разбора каждого слова собеседника. В конце концов прекратились и они, и единственной реакцией Джона на любое мое проявление любопытства стал неизменно угрюмый взгляд. Так смотрит на свою резвящуюся собаку одинокий человек, когда его одолевает нужда в общении с себе подобными. Заметь я подобное поведение за кем-либо, кроме Джона, я счел бы себя обиженным. Но, глядя на Джона, я начинал тревожиться. Его взгляд пробуждал во мне болезненное сознание собственной неполноценности и непреодолимое желание отвести глаза и заняться своими делами.
Только однажды Джон выразил свои мысли свободно. Мы договорились встретиться в его подземной мастерской, чтобы обсудить один предложенный мною финансовый проект. Джон лежал на кровати, свесив одну ногу и закинув руки за голову. Я начал было объяснять свою идею, но его мысли явно где-то витали. «Черт побери, ты вообще слушаешь? – наконец, не сдержавшись, воскликнул я. – Ты опять что-то изобретаешь?» – «Не изобретаю, – ответил он. – Открываю». Его голос звучал настолько тревожно, что меня охватила невольная паника. «Боже ж ты мой, ты можешь выражаться яснее? Что с тобой творится в последнее время? Мне-то ты можешь сказать?» Он оторвал взгляд от потолка и в упор уставился на меня. Я принялся набивать трубку.
«Хорошо, я скажу, – наконец произнес Джон. – Если сумею. Или столько, сколько сумею. Какое-то время назад я задался следующим вопросом. Является ли нынешнее состояние мира всего лишь случайностью, болезнью, которую можно избежать или излечить? Или в нем проявляется нечто, присущее человеческой природе? Ну что же, теперь у меня есть ответ. Homo Sapiens похож на паука, который пытается выбраться из таза. Чем выше он забирается, тем круче подъем. И рано или поздно он снова соскользнет вниз. Пока он ползает по дну, все в порядке, но как только начинает карабкаться – падение неизбежно, не важно, по какой стенке он решит ползти на этот раз. И чем выше он взбирается, тем дальше падать. Оно может основывать цивилизацию за цивилизацией, но каждый раз, задолго до того, как человечество научится быть по-настоящему цивилизованным, – ж-жух! – оно снова соскальзывает вниз!»
«Может, все так и есть, – запротестовал я. – Но откуда у тебя такая уверенность? Hom. Sap. – изобретательное животное. Предположим, паук придумает способ сделать свои лапки липкими? Или, например, это не паук вовсе, а… жук! У жуков есть крылья. Пусть они иногда забывают о них, но… Тебе не кажется, что нынешний подъем отличается от предыдущих? Механические приспособления – это клей на его лапках. И мне чудится, что и надкрылья тоже начинают слегка подрагивать».