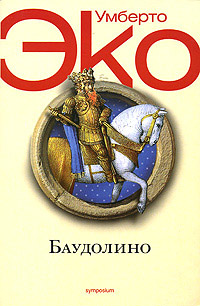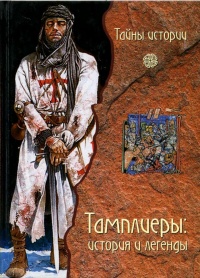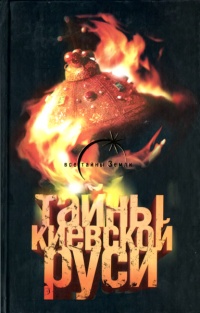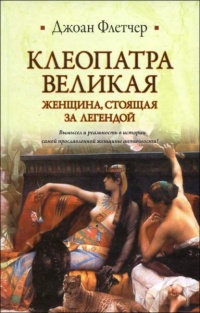Книга Легенды мировой истории - Карина Кокрэлл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Все свершилось точно так, как и предсказывала Кассандра.
Истомившиеся от долгого сидения в деревянном коне ахейцы (среди которых был и Менелай) открыли люк, попрыгали, стараясь не шуметь, из деревянного коня на буквально устланную пьяными троянцами площадь, справили у основания городской стены нужду (сутки почти в деревянном брюхе просидеть — не шутка!), потом поднялись на стену.
И подали сигнал ахейскому флоту, чтобы шел к берегу. И — начали резать защитников Трои. Хмельных от вина, заснувших, даже не выставив часовых, счастливых от того, что пережили эту войну…
Старик Приам был заколот в своей спальне. И — вот уж совсем бесчеловечно: со стены, прямо на каменный выступ фундамента, ахейцы сбросили сынишку Гектора, младенца Астианакса, который к тому времени только научился самостоятельно ходить. Говорят, это сделал какой-то рыжеволосый парень, обезумевший в пылу кровопролития, как это бывает с неопытными солдатами. Видели, что вокруг него на широкой стене кипел бой, а он — вдруг остановился, странно на всех посмотрел, словно только теперь осознав, что сотворил, замер, а потом ступил со стены вниз и сам через несколько мгновений превратился в мешок с изломанными костями.
Менелай наконец отыскал свою вероломную Елену. В доме Деифоба, брата Париса, — к тому она перешла как эстафетная палочка. К каким уж уловкам прибегла Елена, чтобы оправдаться, — неизвестно, но головы он ей, ко всеобщему удивлению, не снес, и многие были справедливо разочарованы, особенно если учесть, какое количество жизненных нитей перерезали из-за нее своими бронзовыми ножницами неумолимые мойры[37].
Кровопролитие в городе продолжалось три дня. В боевом угаре ахейцы осквернили грабежом даже местные храмы почти всех олимпийских богов и богинь. А боги уже ни во что не вмешивались, просто ошалело смотрели с высоты на людей, и, кто знает, что думали они в тот момент о смертных…
* * *
Человек сидел у костра на берегу и смотрел на предрассветное небо, словно чего-то ждал. Рядом с ним стоял глиняный кувшин. Время от времени он отхлебывал из него вино, и взгляд его становился все тяжелее. От запаха гари трудно было дышать. Стены Трои походили теперь на челюсти с выбитыми зубами. Город еще горел. Ахейские корабли готовы были к отплытию домой, теперь уже — без обмана.
К человеку у костра подошел другой — широкоплечий, тяжелый. Молча сел рядом.
— Ну, вот и всё, — сказал тот, что ждал рассвета, и протянул подошедшему свой кувшин. Тот принял кувшин и сделал большой глоток.
— Так и не ложился, Одиссей?
— В море высплюсь, Агамемнон. Я раньше хорошо спал в море.
— То было раньше, Одиссей! До войны, — Агамемнон помолчал. — Ты знаешь, я дал уйти троянцу Энею.
Во взгляде Одиссея отразился вопрос:
— Энею?
— Тот троянец, что дрался не хуже Гектора.
— Помню.
— Мы пили с ним вместе тогда, во время перемирия, перед боем Менелая и Париса. Он так странно меня спросил: в чем более славы — разрушить великий город или заложить его?
— И что ты ему ответил?
— Тогда я ответил, что, конечно, разрушить. Потому что неизвестно, станет ли великим город, который ты заложил. — Агамемнон чуть помолчал. И продолжил: — Эней выносил на плечах безногого отца. С ним были и другие. Все они бежали к своим кораблям, я мог с легкостью догнать их и перебить, но не стал. Он, видимо, хороший сын, этот Эней[38]. Пусть живет. Я не стал его убивать.
— На тебя не похоже! — усмехнулся Одиссей. И сказал вдруг без всякой связи: — А я просидел всю ночь и пытался вспомнить свою жизнь до войны. Вот даже сына своего совсем не помню. Зовут его Телемах. Это помню, а больше ничего не вспоминается. Плохо…
Агамемнон промолчал. Потом тяжело вздохнул:
— А я помню свою дочь, Одиссей. Хорошо помню. Молю богов, чтоб дали забыть. Не слышат…
Он снова отхлебнул из кувшина. Оба надолго замолчали. Потом Одиссей потер лоб и тихо, словно самому себе, сказал:
— Нет, ничего не вспоминается. Словно и не было ничего до этого в жизни. А может, и вправду не было?
Агамемнон ничего не ответил.
Они сидели спиной к еще горящей Трое, и им обоим совсем не хотелось оборачиваться, чтоб хотя бы взглянуть на поверженный город.
— А ты знаешь, он ужасно боялся смерти, — снова заговорил Одиссей.
— Кто?
— Ахилл.
— Не больше, чем каждый из нас.
— Больше. Он ведь признался мне, когда я пришел уговаривать его вступить в битву… Помнишь, когда троянцы совсем оттеснили нас к кораблям? — Агамемнон кивнул. — Ахилл посмотрел тогда на меня и сказал: «Разница между тобой и мной в том, что ты не знаешь, как умрешь и когда, а я — точно знаю». Он сказал, что ему невыносима мысль о темноте Аида. Ты заметил, на его триере всегда горели треножники, даже до утра? А Брисеида, сказал он мне, была лишь поводом выйти из битвы и хоть немного продлить свои дни.
— Вот как? Герой Ахилл!..
— Этот страх смерти отпустил его только после гибели Патрокла, он сменился виной, скорбью и жаждой мести. Помнишь, он хотел пойти на троянцев и отомстить Гектору сразу же, как только получил свои новые доспехи? А я сказал, что гоплитам нужно сначала отдохнуть, и увел его к себе…
— Не помню, но раз ты говоришь…
— А я помню. Так вот, он всю ночь говорил о Патрокле, только чтобы распалить свой гнев и отогнать страх смерти, который словно стоял и ждал в темноте, готовый подступить в любой миг и сомкнуть руки у него на горле. И чем больше Ахилл боялся, тем больше распалял себя. Это ужасно, что герои знают, каким будет их конец. Как мудро, что мы, просто люди, этого не знаем!
— Великий герой Ахилл — боялся? Даже если ты и не врешь, Одиссей, а я вижу, что сейчас ты не врешь, этому никто никогда не поверит. Сукин сын добыл себе бессмертную славу.
— А мы, Агамемнон? Что добыли себе мы? Что всё это, вообще, было?
— О чем ты?
— Да всё это, эта… наша Троя…
Агамемнон опять не ответил и передал Одиссею кувшин с вином. Тот, судорожно двигая кадыком, влил в себя его остаток. Встал и с неожиданной злостью забросил пустой кувшин в море. Тяжело поднялся и Агамемнон.
— Рассветает, — сказал он, — Пора возвращаться на корабли. Ты теперь — к себе, на Итаку?
Одиссей лишь неопределенно пожал плечами.