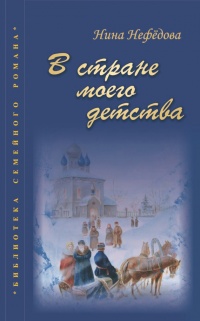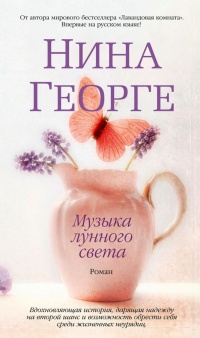Книга Биянкурские праздники - Нина Берберова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Взявшись под руки, как в атаку, прошли по улице с веселым галдежом итальянцы. Стараясь петь на три голоса, выводили страстные слова: тут было и соле, и маре, и аморе, чего тут только не было. А еще некоторые изображали губами всякие инструменты, играли в оркестр, наплевав на всех и на все. Дуня дождалась, когда они пройдут.
И тот, на втором этаже, дождался тоже и сказал:
— За чарующий взгляд искрометных очей не боюсь я ни мук, ни тяжелых цепей.
Она вздрогнула, подняла голову. И тут ей захотелось плакать.
— Сеничка, это вы? Что вы меня пугаете? — никого не было видно.
— Нет, это не Сеничка, — сказал тихий голос в окне с тоскливым испугом. — Какой такой Сеничка? Вы разве ждете Сеничку? Нет, я не Сеничка. А вы хотели Сеничку?
И вот на улице стало тихо. Мужчина с женщиной додрались под стенами недостроенного дома и теперь, обнявшись, спали на земле, на досках, сваленных здесь накануне и потому сухих. Ветер поднимался из-за реки, неся с собой запахи большого ночного счастливого города. Не дай бог парижский ветер в Биянкуре — нечем дышать тогда нам всем. Дует он хитро, тонко дует, то удушьем, то заманчивой, но вредной свежестью, которая расслабляет, от которой идут все сны, мечты и дурманы. Запретить бы вовсе ему оттуда на нас дуть. Но как обойтись без Парижа? Немыслимо. Ведь душа к этому ветру навстречу рвется.
— Выпьем, Гриша, за прелестную парижанку Женечку!
— Выпьем, Петя, за прелестную парижанку Клавдию Даниловну!
Кому-то понесли третий графинчик. Дуня вернулась к столам, к дворянину, к розе. Тут ее ждали, тут за то время, что она по улицам бегала, в том углу хор составился, хор из почти что родственников. Только ее и не хватало.
— Выпьем, Гриша, за прелестную…
— …за прелестную парижанку…
Анастасия Георгиевна Сеянцева жила в Биянкуре с незапамятных времен, во всяком случае, лет девять, не меньше. Она появилась еще тогда, когда достраивался отель «Каприз», она въехала в него первая, и за это хозяин «Каприза» подарил ей премию: вазон из небьющегося мрамора, который она, взяв за одно ухо, поставила на камин. Она помнила, как на Национальной площади появились первые чужестранные гости: сидели они в куче на земле, дети плакали и были раздеты, женщины, неумытые, оборванные, простоволосые, без чулок, блестели испуганными глазами, а мужчины, обросшие бородами, сумрачные, в шинелях английского образца, сидели рядом, не спуская глаз с убогих узлов, протасканных по всей Европе, из которых вытряхивались чайники, иконы и сапоги.
Местное население сперва называло этих пришлецов цыганами, потом, после долгих споров о народах востока, — поляками, но затем выяснилось, что голодные эти не французской веры. Тогда сразу сообразили, что они — сербы: сербам на роду написано испивать чашу до дна, сербов давно все обижают.
Но пришли парижские журналисты с книжечками, карандашиками, фотографическими аппаратами и объявили, что (они-то знают!) это — армяне, бежавшие из-под Трапезунда через Месопотамию и вот привезенные в Биянкур мосью Рено в помощь.
Окрестные бистрошники стали выносить этим людям большие чашки бульона «куб» и ломти хлеба. Дети обеими руками держались за матерей, а матери обеими руками — за чашки.
— Вы — армяне? — спрашивали их. Но они мотали головами и благодарили.
И однажды проходила мимо Анастасия Георгиевна Сеянцева, приехавшая за месяц до того и почти не выходившая из «Каприза». Она спросила: почему эти антисанитарные люди сидят на земле, когда есть скамейки? И ей ответили, что они стесняются.
Она подошла к одной из женщин, качавшей младенца, перекидывавшей его с одной руки на другую. Она только что покормила его, и грудь ее была открыта. Младенец родился какую-нибудь неделю тому назад и не был еще, вероятно, записан в биянкурский мэрии. Анастасия Георгиевна услышала, как женщина напевает:
Анастасия Георгиевна посмотрела на грудь, протасканную по всей Европе, и почувствовала, как в глаза ее откуда-то налилось что-то теплое, а кое-что даже перелилось через веки и по щеке бежит, и люди могут заметить. Она пошла к бистрошникам, вынула из саквояжа небольшие бывшие там деньги и попросила положить в каждую чашку бульона «куб» по кусочку мяса.
Все удивились: как, это русские? Те самые? Кто бы мог ожидать!
Анастасия Георгиевна при царском режиме была веселой кокетливой штучкой. Была она замужем, но мужа держала в черном теле, а больше любила путешествовать по заграницам, с подружкой или одна, любила знакомиться в поездах и на курортах, любила наряжаться, порхать, кружиться, предпочитала цветочки ягодкам, но и с ягодками мирилась. В Петербурге, где проходила зимой ее жизнь, она училась пению, брала аккорды и целые два года перед войной, не обращая внимания на незаметного мужа, охотилась — с засадами, угрожающими письмами, ночными ожиданиями — на писателя Андреева, так что этот писатель Андреев едва и в самом деле не попался ей в руки, да бог спас.
Одевалась она помимо всякой моды, между бровями носила локон, все распахивалась и запахивалась, и куталась, и спускала с плеча… Одним словом, вела себя пленительной загадкой. Да и что ж, раз были деньги!
По случаю высокого роста и чрезмерной худобы, а также любви ко всяческим редким позам, в обществе и свете принимали ее иногда (когда, например, случалось ей сидеть у окна или двери в кресле) за свалившуюся с крюка драпировку: длинная, вся в материи. И вдруг как расхохочется драпировка, как задрыгает, как встанет да пойдет брать аккорды. И тут каждый увидит розоватые скулы, локон между бровей. И многим, конечно, такое понравится.
Что уж с ней произошло в течение трех лет между тем временем, как стряслась у нас революция, и тем, как ей появиться в Биянкуре, неизвестно. Говорили — да разве могут люди не говорить? — будто мужа ее расстреляли, деньги, дом, музыкальные инструменты, брошки-шпильки отняли и погнали ее одну-одинешеньку, как дубовый листок, по всей Руси, и мчалась она таким образом до самого Черного моря, где подголадывая, где подмерзая, где паршивея, а где и вшивея. И переплыв Черное море, высадилась она на Балканах уже совсем иной персоной.
Было ей в то время, году в двадцатом, лет сорок, но на вид можно было дать куда больше. На Балканах она не засиделась, приехала в Париж. В Париже ей показалось все весьма дорого, она решила поселиться под Парижем, говорили, что у нее сохранились кое-какие деньги. Да разве могут люди не говорить?
Нельзя сказать, чтобы она женским чутьем предугадала славное будущее Биянкура. Она оказалась здесь случайно: увидела гостиницу, взяла комнату, получила вазон и притихла.
Когда выходила она на Национальную площадь, это была худая женщина, по-прежнему высокая, в длинном черном полумужском пальто, в неопределенного фасона матерчатой шляпке, из-под которой сбоку и сзади были видны полурусые-полуседые волосы. Руки в нитяных перчатках держала она у груди, кистями вниз, а под мышкой прятала порыжевший, когда-то весьма пригодный саквояж. Ноги ее были довольно велики, в низких лаковых туфлях с широким бантом, таких, какие носят франты при фраках и прочей дряни. Она ходила держась прямо, лицо ее было серовато-желтого оттенка, в сухих морщинках, только скулы все еще розовели, а рот был всегда крепко сжат, взгляд остер и пронзителен.