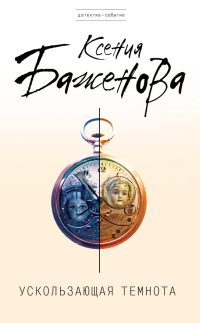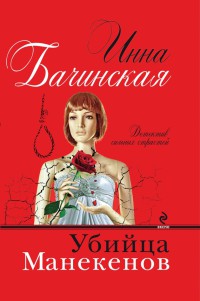Книга Дездемона умрёт в понедельник - Светлана Гончаренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— …и уедет теперь в Израиль, — поймал Самоваров ухом тихий разговор Лены и Насти. Это они о Шехтмане, что ли?
— Уедет, как пить дать, — вещала Лена. Она собиралась уже домой, и застегивала сапоги. — Он-то, может быть, до самого конца надеялся. Он-то, когда Геннаша ее по всему Первомайскому микрорайону в тапочках гонял, так и сказал: «Таня, твой талант гибнет. Бросай Геннадия! Актер он хороший, но больно скор на руку. Он и Альбину поколачивал, да та крепкая и сама может скалкой ответить, а твой талант пропадет. Бросай Геннашу, выходи за меня. Я твой талант сберегу». В репетиционном зале это было, при мне — я там стояла, потому что Геннаша сначала шумел — ну, как не пойти не посмотреть! А Таня ему: «Что вы, что вы, Ефим Исаич, вы мне вместо отца. У меня никогда отца не было, и я страдала. Но люблю я Геннадия. Пусть бьет». А Ефим Исаич: «И никогда?» А она: «Никогда и ни за что». Ефим Исаич посинел, рот раскрыл да так и сел на пол. Схватили его, конечно, на диван потащили, «скорую» вызвали. Оказалось, инфаркт разбил. А Таня от Геннаши вскорости и ушла.
— Говорят, Геннадий Петрович ее задушил, — влез в разговор Самоваров.
— Не знаю, — неопределенно протянула Лена уже в дверях. — Он что-то тихий сегодня. Уксусов в драку кидался, так Геннаша его просто в узелок какой-то смял и за дверь толкнул. И все! Может, и он… Вы, Настя, раскладушку свою не забудьте!.. Да, тихий Геннаша что-то. А Глебка все пьет.
«Вот любовь! — вздохнул Самоваров, наращивая витые рога фавну со стула Отелло. — Просто край безумных любовников, периферийная Бразилия. Даже я в любовники вышел. Никому не отвертеться».
И этот день уходил. Он уходил из весны в зиму. Над Ушуйском повисла туча — пузырем, совсем как потолок в театре. Засеялся мелкий снежок, все застыло и побелело. Самоваров и Настя втащили в городской автобус раскладушку (ту, наверное, у которой голова падает), еще одну «падушку» и прочие постельные причиндалы, завернутые в потрепанную кулису.
Старый Ушуйск был красиво выстроен, на холмах. Горсти небольших, столетнего уюта домиков лепились вдоль древних ручьевых стоков, разрезавших обрыв, как пирог Самоваров и Настя сидели, обнявшись и придерживая раскладушку, и глядели на чужие игрушечные домики над белой глазурью нового снега.
— Городок такой хороший! — шептала Настя и засовывала тонкие пальцы в горячий кулак Самоварова.
Новый Ушуйск, где и была знаменитая квартира с ромашками, туземные градостроители почему-то разместили на отшибе, в чистом поле. Когда автобус перестал по-лошадиному взбрыкивать на холмах среди деревянных домков-сундучков, за окнами вдруг потянулась скучная равнина, недалеко видная из-за густого мелкого снега. Можно было подумать, что городской автобус взбесился и ни с того ни с сего свернул прогуляться по деревенскому бездорожью. Унылый серенький пейзаж, так любимый передвижниками, дополняли кривоствольные, будто с перебитыми коленками, березнячки.
Вдруг среди мутной белизны и мелькания снега возникли на обочине три черные согбенные фигуры. Фигуры понуро брели вдоль дороги. На плечах у них торчали лопаты.
— Господи, они же из театра! — опознал фигуры Самоваров. — Уксусов, шофер Витя и один монтировщик. Куда это они?
— Могилу копать, — зловещим испуганным шепотом откликнулась Настя.
В самом деле, за одним из березнячков показалось городское кладбище, заснеженное и такое унылое, что даже у Самоварова захолодело внутри. Кресты и призмы надгробий частоколом высовывались из высокого загородного снега. Эта пустыня с жалкими знаками над несчастными зарытыми телами выглядела космически ужасной. Еще вчера живая Таня будет тоже отнесена сюда. Самоваров вспомнил: Таня, в голубом, косо сидящем платье, с расширенными глазами на разрисованном лице бродила (вчера? нет, позавчера!) по казенному коридору, не видя ничего вокруг, будто перед чем-то страшным и важным. Самоваров еще вспомнил, что показалась она ему раненой. Или свидетелем, которого хотят убить. Интересно, актрисы всегда такие перед выходом на сцену? Или она тогда уже к другому ужасу готовилась, не из пьесы?
— Как в какой-то страшной пьесе, — вдруг сказала Настя, и Самоваров вздрогнул. — Я имею в виду, будто мы пьесу смотрим. Ведь у Шекспира были могильщики?..
— Ладно смотреть, только бы в этой пьесе не участвовать, — мрачно вздохнул Самоваров.
За окном исчезло и кладбище, и березнячки. Пошли вкривь и вкось пятиэтажки, тоже унылые, но по-живому. Мелькнула даже веселая желтая вывеска «Версаль». Вот и приехали. Вот и новая жизнь. Вот и покажи, Самоваров, свое несравненное мастерство в варке макарон и супчиков. Пугай теперь тараканов, гни подагрические суставы раскладушки (так и есть, голова у нее падает!) и застилай ее жидким одеяльцем, чтоб потом — под него, в незаслуженную страсть, в сладость! Все-таки странные случаются вещи — не только вообще, но и лично с ним, Самоваровым. Он устал удивляться.
Ночью, показавшейся глубокой от безмерной и утомительной любви (а всего-то было около десяти часов) Самоваров всплыл из глухого сна от толчков в плечо. Еще и свет голой лампочки больно продирался сквозь веки.
— Что такое? — невнятно пробурчал он. — Кто там?
Наконец он сумел открыть глаза и увидел перед собой свой ушуйский кошмар: Юрочку, Кыштымова, Яцкевича и бутылку со свирепой физиономией хана Кучума. На второй раскладушке сидел его второй ушуйский кошмар, рассосавшийся было во сне и снова настигший — нагая Настя Порублева. Она спросонья незряче моргала на кучумовский портрет и небрежно прикрывалась спереди одеяльным комом. Самоваров не привык пока, просыпаясь, ее видеть, и смутился.
— Ребята! — взмолился он и спрятался под одеяло. — Ну, что вы!.. Некстати…
— Мы понимаем, — двусмысленно оскалился Лео. Он очень разглядывал ошарашенную Настю. — Однако…
— За покойную надо бы, — резюмировал Яцкевич.
— Может, завтра? Утро вечера мудренее? — сопротивлялся Самоваров, и ужасное видение стола-самобранки с подогнутой ногой накрыло его волной тошноты.
— По одной, — невозмутимо настаивал радист.
Самоваров сдался:
— Но только по одной! И ради Бога, стола не надо!
Он с отвращением выпил и глядел украдкой, как рядом пьет Настя, которая уже совсем проснулась и, к явному огорчению Кыштымова, вся подобралась под одеяло. Она глотала кучумовку, затаив дыхание. Когда чашка опустела, она жадно хватила ртом воздух и заплакала густыми физиологическими слезами. Какая милая девочка! Яцкевич сунул ей в рот, как дрессированному тюленю, кусочек соленого огурца, она послушно жевала и все поглядывала на Самоварова — правильно ли она делает? Милая!
— Ну, все! — решительно заявил Самоваров. Он не мог больше травить Настю кучумовкой. — Спокойной ночи и приятных сновидений.
— Я не помешаю? — вдруг спросил Юрочка вежливо, таким тоном, будто он только что ступил на порог, и опустился в самоваровскую раскладушку. Он был под нехорошим, сосредоточенным хмельком, опух и растрепался. Смородинки глядели решительно.