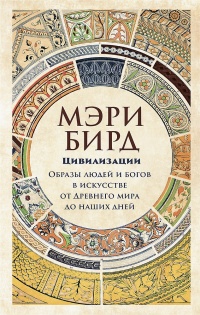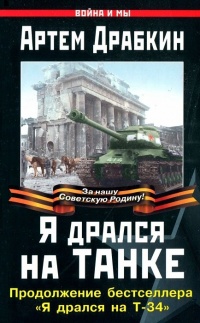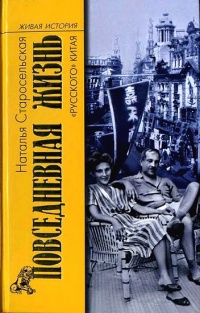Книга Тридцать шестой - Александр Виленский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Подожди, — стараясь прожевывать, прежде чем говорить, спрашивал Прокл, — а где же смирение? Добродетель? Бедность, наконец? Разве Помазанник не об этом вещал ученикам своим?
— Об этом, — неожиданно легко соглашался Александр улыбаясь. — А как одно противоречит другому? Разве Он не принес себя в жертву ради всех людей на свете? Разве привлечение в лоно нашей Церкви не есть величайшая из целей, которую может себе поставить себе служитель Господа? Разве миссия наша не в том, чтобы весь род людской обратился в истинную веру и наступило Царствие Его на земле?
— Да, это так. Но — убеждением, а не силой. Иначе чем мы отличаемся от язычников?
— Верой. Истинной верой, сметающей все на своем пути. Верой, которая способна творить чудеса. Верой, перед которой бессильны кумиры идолопоклонников.
— Так-то оно так, — продолжал занудствовать Прокл. — Но есть в этом что-то неправильное. Вспомни, как мы жили одной семьей, как все у нас было общее, как каждый освобождался от груза своего прошлого, что тянуло обратно, в трясину материального мира. Разве тогда не были мы истинно свободны? Разве не это удел избранных? А ты, я смотрю, вовсе от благ этого мира не отказываешься, а? Не то что раньше.
Александр заметно разозлился:
— А я должен, по-твоему, отказываться? Это с какой стати?
— А с такой, что бедность — это и есть добродетель. Ну хорошо, одна из добродетелей. А какой же ты пастырь, если не добродетелен, зато сыт и богат?
— Ты слишком долго предавался своим добродетелям в темнице, — сухо сказал епископ. — Времена изменились. Я понимаю, ты считаешь, что вернулся в тот же мир, из которого был забран, но это не так. Мир изменился. Вместе с ним меняемся и мы. И тебе тоже стоит измениться. Иначе — пропадешь. Да пойми же ты, — пылко заговорил Александр, и в нем вновь стало возможно разглядеть прежнего неистового пресвитера. — Как я могу проповедовать среди людей, если одет в рубище и все помыслы мои направлены только и исключительно на добывание пропитания?!
«Да так же, как ты это делал раньше!» — хотел сказать Прокл, но сдержался.
— Люди видят сирого, убогого, голодного и думают: «Это вот такими и мы станем, если в новую веру обратимся? Вот уж нет!» Люди должны видеть, что вера — это счастье. Что хотя истинное богатство веры внутри тебя, но и внешнее благополучие должно свидетельствовать о сиянии веры. Это не я богат, это община наша богата. И не камнями драгоценными, а духом и верой — чему и символ блеск епископа.
«Ладно, — подумал Прокл, — не буду с тобой спорить. Нельзя попрекать хозяина в его доме его же угощеньем».
— Это что? — решил он сменить тему, кивнув на висящие на ремешке брусочки.
— Это, брат, крест, символ страданий Спасителя.
Прокл поразился. Даже похолодел от такого святотатства.
— То есть ты хочешь сказать, что носишь на груди орудие мучений, на которые обрекли Господа?
— Нет. Я хочу сказать, что ношу на груди святое напоминание о тех муках, которые претерпел за нас Спаситель.
Прокла начало трясти. Не фигурально, а буквально. Просто затрясся от возмущения, закружилась голова, он даже забеспокоился, как бы от такого сознание не потерять.
— Да нет, уважаемый епископ Александр, опомнись! Это не святое напоминание, а мерзость и кощунство! Чистой воды кощунство. Носить на груди орудие позорной казни! В голове не умещается. И ты еще смеешь называть себя пастырем? Да какой ты пастырь! Как ты смеешь учить других добру, бессовестный, нося на шее эту гадость? Ты ли это, Александр, друг мой?! Ты сам-то понимаешь, что творишь?
Учитель холодно смотрел на горячащегося ученика.
— Смотрю я, ничему тебя узилище не научило. Не понимаешь ты жизни, не идешь в ногу со временем. А такие сейчас не нужны. Не друзья они нам. Даже если молчат, то и молчание их вредит нашему делу, сея смуту в неокрепших умах неофитов. Поэтому знаешь что, дорогой мой Прокл, не будет тебе моей дружбы, безнадежен ты, застрял в прошлом, делу нашему бесполезен. Иди-ка ты отсюда подобру-поздорову. И не из дома моего иди, а из города. Вообще. Отпускаю тебя, памятуя о прежних твоих заслугах и о нашей дружбе. Но теперь больше мне не попадайся. Понял?
— А кто ты такой, дорогой мой Александр, чтобы указывать мне, куда и почему идти, а?
— А я, горестный сиделец, если ты еще не успел понять, не просто епископ и пресвитер общины нашей, а Папа. Папа всех, кто верует, во всей империи. Ну, кроме Рима, единственно. Теперь понятно? И если ты через сутки еще будешь по-прежнему шататься в городе со своими идиотскими идеями, вытащенными из древнего сундука, и не приползешь ко мне на коленях — я не шучу, на коленях! — умолять дать тебе хоть самую малую возможность исправиться и служить мне и Господу так, как этого требует время… Так вот, ровно сутки — или пошел вон из моего города. А ты меня знаешь: я если обещаю, то делаю. И выйти из темницы на этот раз будет тебе ох как сложно. Уж поверь, понадобится еще одно чудо от щедрот Господа, а я его промысла не знаю, мне неизвестно, сколько чудес у него для тебя припасено. Ну всё. Поел? Прощай.
Так Прокл снова оказался на улице.
Деваться опять было некуда. Но это было не так страшно, как то, что случилось с добрым и славным Александром. Вот это оказалось пострашней и бездомного существования, и совершенно непонятного будущего.
Что делать-то? Все, во что верил Прокл и что держало его все эти годы, не давая сойти с ума, не то чтобы рухнуло, но сильно пошатнулось. Уж если Александр поддался соблазнам мирским, то чего же ждать о других? Что будет с верой? С истинной верой, которая единственно и есть жизнь? А как может изуродовать алчный и циничный пресвитер души неофитов — даже думать не хотелось. И как будет выглядеть мир, построенный по проекту александрийского папы, — тоже. Поди, еще и богословские споры отменит, насаждая одну-единственную «верную» линию. Свою.
Смятение, одно смятение.
Но что делать?
Отведенные на обдумывание сутки заканчивались, а решения Прокл никакого не принял. Понятней ситуация не становилась. И только к вечеру следующего дня пришло, нет, не решение, а понимание того, что нужно сделать.
Что там говорил Александр об Антонии? Из осторожных расспросов выяснилось, что этот пресловутый Антоний, как и говорил папа, фанатик, покинувший мир ради молитвы и смирения, добровольно заточивший себя в пещере где-то в горах у Красного моря — единственно служения Господу ради. Рассказывали всякое, кто — со смехом, кто — с уважением. В городе его хорошо знали: в скитаниях старик Антоний частенько посещал Александрию, поражая всех косматым видом и свирепым нравом, особенно в отстаивании символов веры, которые сам себе установил. Косноязычный заика, брызгавший слюной, он убеждал не красивыми словесами, а невероятной энергией, которой заражал слушателей.
Прокл не знал его раньше, но говорили, что с папой Александром Антоний не очень ладил. Ну оно и понятно. Один стоял за привлечение к вере блеском, второй — за обращение личным примером подвижничества и благочестия. Оба пути, наверное правомочны, определенная логика в словах Александра была. Прокл это признавал. Но ему лично был ближе путь анахорета избранный Антонием. Именно такой подход к служению Спасителю казался Проклу единственно возможным: весь, без остатка, без условий, без жалости к себе или к близким. Отказаться от мира, уйти от него — это ли не есть высшее благо? Не в этом ли единение с Божественной силой, которой все равно, в какие одежды ты одет и что ешь на обед, но которая ревностно следит за тем, что в душе твоей?