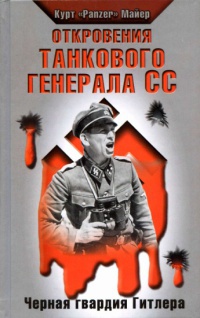Книга Зяблики в латах - Георгий Венус
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…«Дано сие крестьянину села Дьячье Орловской губернии Власову Антипу, — с трудом разбирал я замытые водой слова, — в том, что вышеупомянутый крестьянин Власов отпущен нами по несении наряда, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.
За к-ра 9 роты 1-го Ударного Корниловского полка — писарь неразборчиво».
Ниже:
«Декабря» — опять неразборчиво — «дня 1919». В правом углу удостоверения расползалась круглая ротная печать.
— Жаль мужика!.. — вздыхая над моим плечом, сказал Едоков. — Смотри-ка, орловский!..
— Всех жалеть будем…
— Всех, Лехин, не всех, а одного можно!.. Отпустим?.. Рыжебородого мы отпустили…
* * *
— Скажем, к примеру, большевики… — рассуждал второй подводчик, уже следуя за нашими санями. — Кому не известно!.. Обижают!.. Да все больше насчет скота и хлеба, а ваш брат и насчет шкуры не совестится.
— Насчет какой шкуры?
— А той, что под штанами… У мужика она хошь, говорят, и толстая, а все ж чувствительно…
* * *
Приморозило…
«За Уралом за рекой», — вполголоса напевал Едоков…
Наконец показался и Харьков.
— Пожалуй, в Харькове не разживешься… Лавки, пожалуй, закрыты… Идем! — сказал я, взял снятую с Акима упряжь и вместе с Едоковым пошел в маленькую, покосившуюся хату, одиноко стоящую на краю дороги.
В хате было темно.
— Здорово, хозяин!
— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте!.. — кланяясь седой, приглаженной головой, ответил мне с лавки старик хозяин. — Здравствуйте… наконец-то!..
По малиновой тулье моей фуражки он принял меня, очевидно, за красного.
— Постой! Товарищи придут через час. А пока вот что, старик, — угости хлебом! — Я бросил на лавку упряжь. — Возьми вот… Заместо денег это!..
— Нам, товарищи, что деньги… Мы…
— Да кадеты это! — перебил старика чей-то угрюмый голос из темного угла хаты.
— Ще кадеты?..
— Всем, старик, и кадетам пожевать хочется. А ну, старик, дашь, что ли?.. — Я торопился.
— Верно это!.. На то нам господом-богом и зубы даны… Хочется… а как же?.. Это ты верно говоришь! — Старик подтянул портки.
Он обернулся к нам спиной и стал шарить на полке.
— Кадеты это!.. — вновь, еще угрюмее, прогудел в углу тот же голос.
— Пущай кадеты!.. Уж пущай!.. Ладно!.. Накормим! Ээх!.. — Шаря на полке, старик кряхтел. — А это ты правильное слово сказал… Да!.. Эх вы-и!.. Уж и я вам скажу тогда, — ладно!.. — Он вновь обернулся и посмотрел на нас с ясным, старческим спокойствием. — Пожевать, говоришь?.. Ну и жевали б себе хлеб с хлебушком… Да только вы, кадеты, позубастей других будете… Вот что!.. Смотри, скольких перемололи. И все — кому?.. Господам на угоду. Ну идите уж!.. Христос с вами!..
Из темного угла выросла рослая широкоплечая фигура молодого парня. Когда мы вышли на двор, парень молча закрыл за нами дверь. За дверью выругался матерным словом.
— Ну, а упряжь взял все же? — спросил меня Лехин, когда я, следуя с ним за санями, рассказывал ему о старике и сыне.
— Взял.
— Сука он, вот что! Едри его корень!
Возле каждых саней, на которых, с уже продетыми лентами и поднятыми прицелами, были установлены наши пулеметы, шло по солдату. Я шел впереди, держа в руках винтовку.
Подводчик следовал за последними санями, — немного поодаль.
— А коль застрекочет?.. Да бои начнутся?..
Людей на улицах почти не было. Немногие встречные быстро сворачивали в ближайшие переулки. Другие жались к домам, исподлобья или удивленно на нас поглядывая.
Очевидно, добровольцы давно уже оставили Харьков.
— Эй, послушай! — подозвал я какого-то не успевшего свернуть прохожего. От одежды его несло рыбой. Очевидно, он был продавцом из рыбных рядов. — Скажи-ка, когда здесь последние добровольцы проходили?
— Ночью прошли.
— Ночью?.. А какие части?..
— Не разбираемся…
Продавец косился на крайний пулемет, но, встречаясь глазами с глубокой, черной точкой канала ствола, сейчас же опускал голову.
— А что, про красных не слышно?
— Был конный разъезд. Утром еще.
— Ну?..
— Ну а теперь не видно что-то.
— Разъезд?.. Да, господин поручик, был разъезд… — подбежал к нам какой-то остроносый реалист лет четырнадцати. — И теперь, говорят, возле вокзала «Южный» другой — тоже конный — показался. Буденного.
— Подгони!
Лехин оглянулся и, взглянув на меня, быстро ударил по лошади.
— На Северо-Донецкий!..
* * *
— …Едри его корень, — Буденного!.. Сперва казаков расшвырял… До нас теперь целится!..
— А ну — минутку!..
Я подбежал к какой-то лавчонке с закрытыми наглухо ставнями и ударил кулаком о двери:
— Отвори!.. Эй вы там!.. Отворите!.. Дверь взвизгнула. Кто-то выглянул, но тотчас же скрылся, вновь захлопнув ее за собою.
— Да отворите! За папиросами здесь!.. Послушайте!.. За дверью вполголоса разговаривали. «Сейчас отворят!» — подумал я, но дверь не отворялась.
Тогда я поднял винтовку и ударил прикладом.
— От-во-ри-и…
Дверь на мгновенье опять приоткрылась. Худая женская рука быстро выбросила несколько коробок папирос. Когда я за ними наклонился, замок над ухом щелкнул снова.
— Эй, сколько тебе?.. Дура!.. Да сколько?.. А Лехин возле саней уже беспокоился:
— Господин поручик! Да идите, господин поручик!..
Прикрепив к замочной скважине пятирублевку, я побежал к саням.
Закурив, я вновь обернулся. На площади перед лавкой пятирублевкой моей играл ветер…
— …Если что, тебя, брат, не тронут… Подводчик недоверчиво чесал затылок и испуганно смотрел на меня.
— Да кто же тронет, дурак?.. Не солдат ведь!.. А ну ступай!.. Ступай-ка!.. Вот, — так вот прямо и пойдешь. На Северо-Донецкий… Порасспроси и узнай, кто там, — наши аль красные…
Ожидая подводчика, мы сидели на санях и курили.
Над городом висела тяжелая, мертвая тишина.
Одиночные приглушенные выстрелы изредка доносились только с Нагорной стороны. Около нас, на Скобелевской площади и Змиевской было тихо и пусто.
Вечерело… По рамам верхних окон карабкалось солнце. Солнце не грело. С крыш уже не капало.
— Поручик!