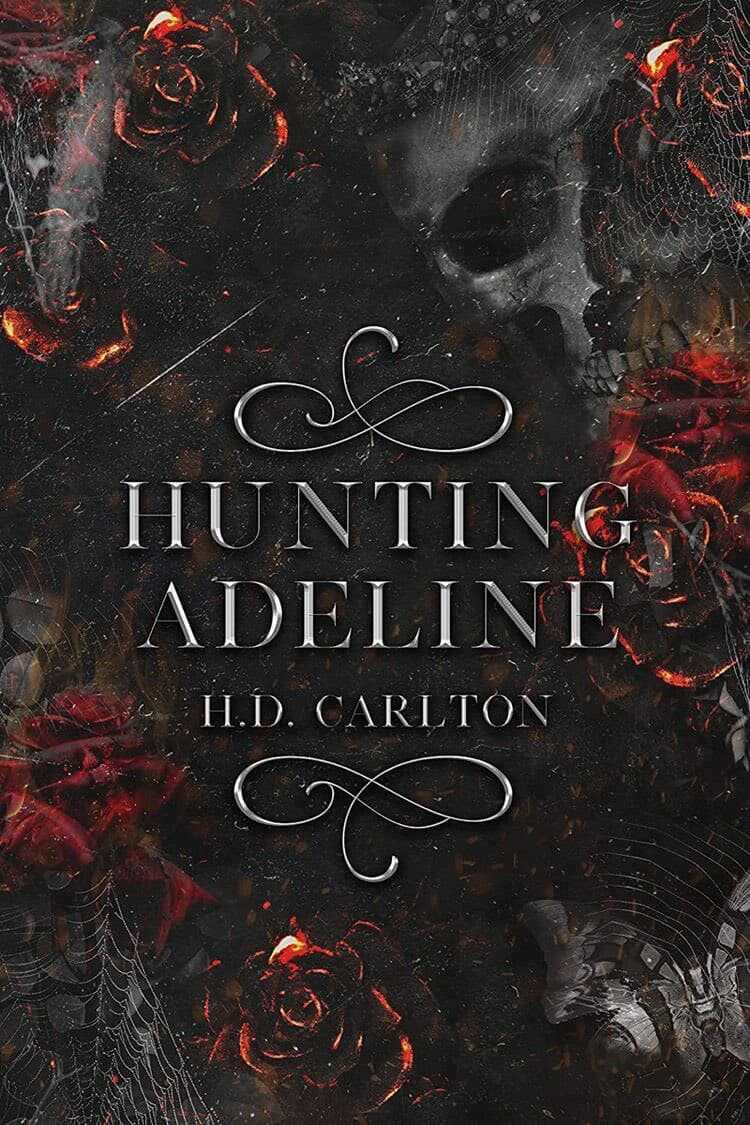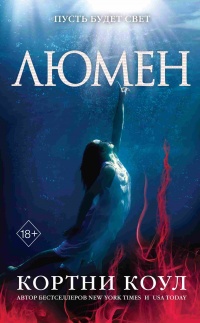Книга Приют гнева и снов - Карен Коулс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– У вас есть хоть какие-нибудь научные труды?
Он откашливается.
– Нет.
– Тогда я возьму «Большие надежды». – Я хватаю книгу со стола. Значит, никакой науки для меня, точно не сегодня, впрочем, я уже сильно сомневаюсь, что вообще когда-нибудь смогу снова читать, потому что слишком занята скрежетом зубовным.
Я сажусь туда же, где и в прошлый раз. По комнате бегает женщина – носится из одного конца в другой, только рыжие волосы развеваются за ее спиной. Вперед – назад, вперед – назад, отскакивает то от одной стены, то от другой, будто мячик. Наверное, это она бегает по лестнице.
Я сижу к ней спиной. Так мне почти не видно ее. Она не более чем назойливое мельтешение в краю глаза. Она хотя бы не смеется. Этого я бы не вынесла. Нужно что-то с этим сделать. Пока она держится от меня подальше, все хорошо. Пока она остается в другом конце галереи.
Стрелки часов движутся. В галерее еще более шумно, чем раньше. Слишком много женщин собралось вместе. Какой же шум стоит из-за всех этих выкриков, квохтанья и смеха. Сколько из них, как и я, ходят к Диаманту в кабинет? У всех уже есть по тетради? А карандаши в рукаве? Кровь стынет в жилах от одной мысли.
«Большие надежды» так и лежат неоткрытой у меня на коленях. Я не слышу собственных мыслей. Пытаюсь сосредоточиться на обложке книги и не слушать беготню рыжеволосой одержимой, и ее сбивчивое дыхание, и пианино, и пение. Много сил уходит на то, чтобы не слушать все повторяющиеся и повторяющиеся звуки.
Пианино не смолкает. Бам-бам-бам – громыхает Подбородок по клавишам. Она поворачивает голову, когда принимается петь, шевелит губами, выжидающе поднимает брови. «Дейзи, Дейзи, дай же мне ответ, ответь…»
Вот бы она заткнулась, закрыла свой рот – эту бездонную дыру с черными зубами и вонью, вонью… Мои уши заполняет вода, и я не вижу ничего, кроме его рта.
Нет. Нет. Все не так. Я спутала ее с кем-то другим. У нее желтоватые зубы, а не гнилые, не черные.
Уже какое-то время передо мной стоит девушка и улыбается. Она небольшого роста, с туго зачесанными черными волосами и светло-карими глазами. У нее мягкий овал лица и по-детски гладкая кожа. Ей не больше тринадцати.
– Это моя любимая книга. – Она указывает на «Большие надежды».
Я прижимаю ее к груди. Вдруг она заметит кровь на странице и все расскажет.
– Мне она не нужна. Я уже прочла ее, – сообщает она.
– Я тоже. – Теперь мы с ней словно соревнуемся. – И не раз.
– Так почему бы тебе не прочесть что-нибудь еще? – Она указывает на священника. – У него много книг.
– Я не хочу. – Наверное, она здесь недавно, и никто не сказал ей держаться от меня подальше. Надо было сказать ей. Правда стоило.
– Тебе стоит держаться от меня подальше, – предупреждаю я.
Девочка садится рядом и складывает руки на коленях.
– Почему?
– Потому что я опасна.
Ее карие глаза заглядывают в мои.
– Мне не страшно.
– Ты не знаешь меня.
– Мы могли бы дружить. – Она оглядывает комнату. – Тебе нравится читать, мне – тоже. Остальные здесь все сумасшедшие.
– Мне не нужен друг. – Надо отвернуться, я злюсь на себя за навернувшиеся на глаза слезы. – К тому же ты тоже сумасшедшая, а я не хочу дружить с больными.
Она встает и уходит.
Я не отрываю взгляд от «Больших надежд». И еще долго не поднимаю глаза, а когда наконец набираюсь смелости, вижу, что она сидит в другом конце комнаты с книгой и уголки ее рта опущены.
Почему я не могу быть дружелюбной, открытой, нормальной? Это не в моей природе, как говорит Уомак. Зло течет по моим венам, говорит он. – Возможно, так и есть.
Звонят к обеду. В столовой я втискиваюсь на краешек скамьи. Нас кормят склизким, жирным супом с ветчиной и горошком. Мясо жилистое, а горох почти весь бежевый и твердый, будто только что из упаковки, только теплый и мокрый.
Все едят. Хрустят, чавкают.
Подбородок тыкает меня в спину.
– Ешь давай.
– Горох не доварен.
Она фыркает.
– Ишь как вы проницательны, мисс высокородие!
Больные смеются с разинутыми ртами, еда летит во все стороны, стекает по подбородкам. В углу стоит странный мужчина с наполненными гневом глазами.
– Высокородная. Высокородная, – выплевывает он слова.
У женщины рядом со мной нет зубов. Она шлепает челюстями. Шлеп-шлеп. Розовые челюсти. Блестящие пронзительные глаза. Шлеп-шлеп. Чтобы заглушить весь этот шум, я напеваю себе под нос мелодию, которую, кажется, слышала где-то:
– Птичка-певунья в золотой клетке…
Отталкиваю миску – есть все равно не хочется – и поднимаюсь. Пол уплывает от меня.
– Что с ней стряслось? – доносится издалека голос Сливы.
– Она как-то странно вела себя за обедом.
Не получается разлепить глаза – веки слишком тяжелые. Слива произносит что-то еще, но я слишком устала, чтобы разобрать ее слова, да и к тому же меня где-то ждут, ведь я теперь наемный работник и не могу просто так сидеть без дела.
– Этот нелепый эксперимент отбросил Мэри на много лет назад, – говорит Уомак.
– Да, доктор. – В голосе Подбородка звучит удовлетворение. Я почти вижу, как сияют ее глаза, а губы растягиваются в довольной ухмылке.
Неважно. Для меня это все пустяки. Нет, это все абсолютно ничего не значит, ведь я где-то в другом месте, на мне нежно-зеленое платье искусной работы, и я должна вычистить камин и разжечь огонь, протереть книги, стереть пыль с полок и отполировать шкафы.
Пробирки запылились, колбы тоже, а еще мензурки, пипетки, котелки, оловянные кастрюльки, и все это я должна отмыть. Ах да, и еще полка с желтыми банками, занавешенными паутиной. Их тоже надо протереть. Мне становится душно, будто это меня заперли в банке с желтой жидкостью, лишив кислорода и свободы. Эти глаза, полные отчаяния глаза. Я отверну их всех к стене. Да-да. Тогда их можно принять за маринованные овощи или за странные растения из дальних стран, пушистые и с хвостиками.
Перед глазами темнота, из соседней палаты доносятся храп и стоны. Лисица кричит где-то вдалеке, ее зов долетает будто из другого мира. Она охотится, рыскает по полю в поисках добычи. Закрыв глаза, пытаюсь представить себя этой лисицей, которой