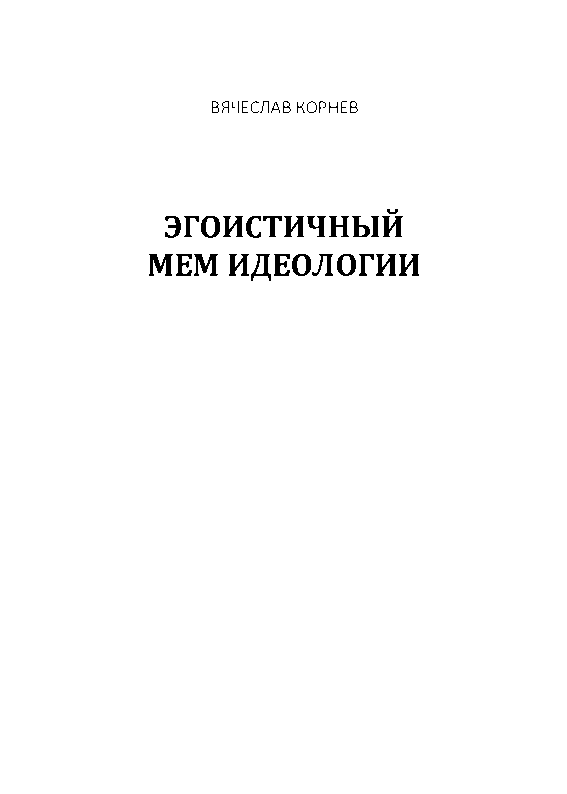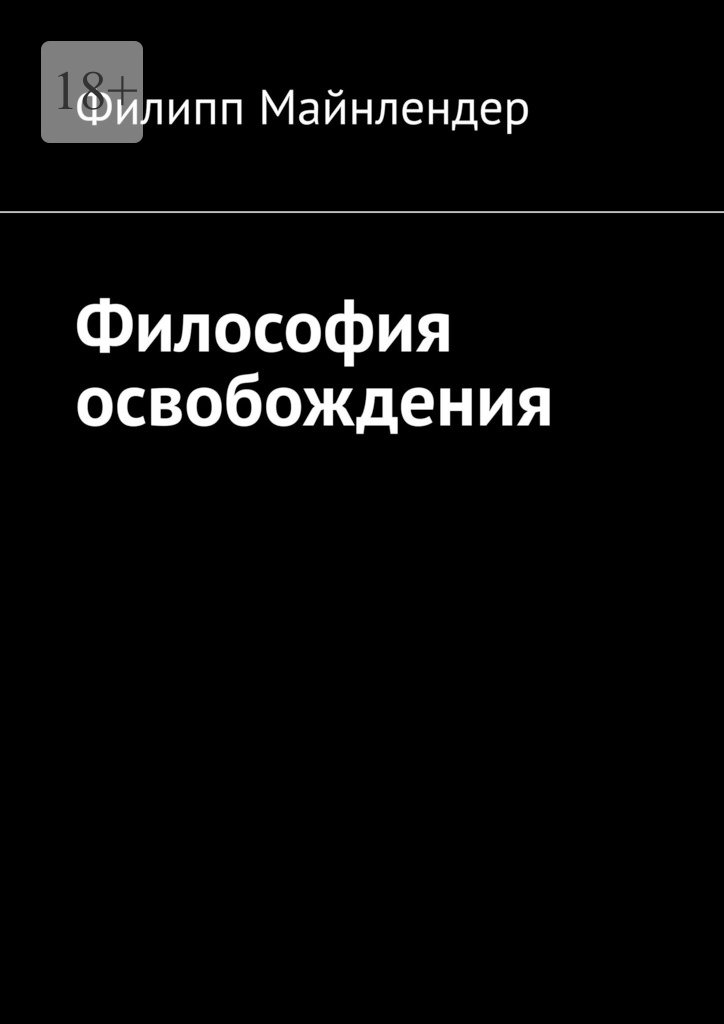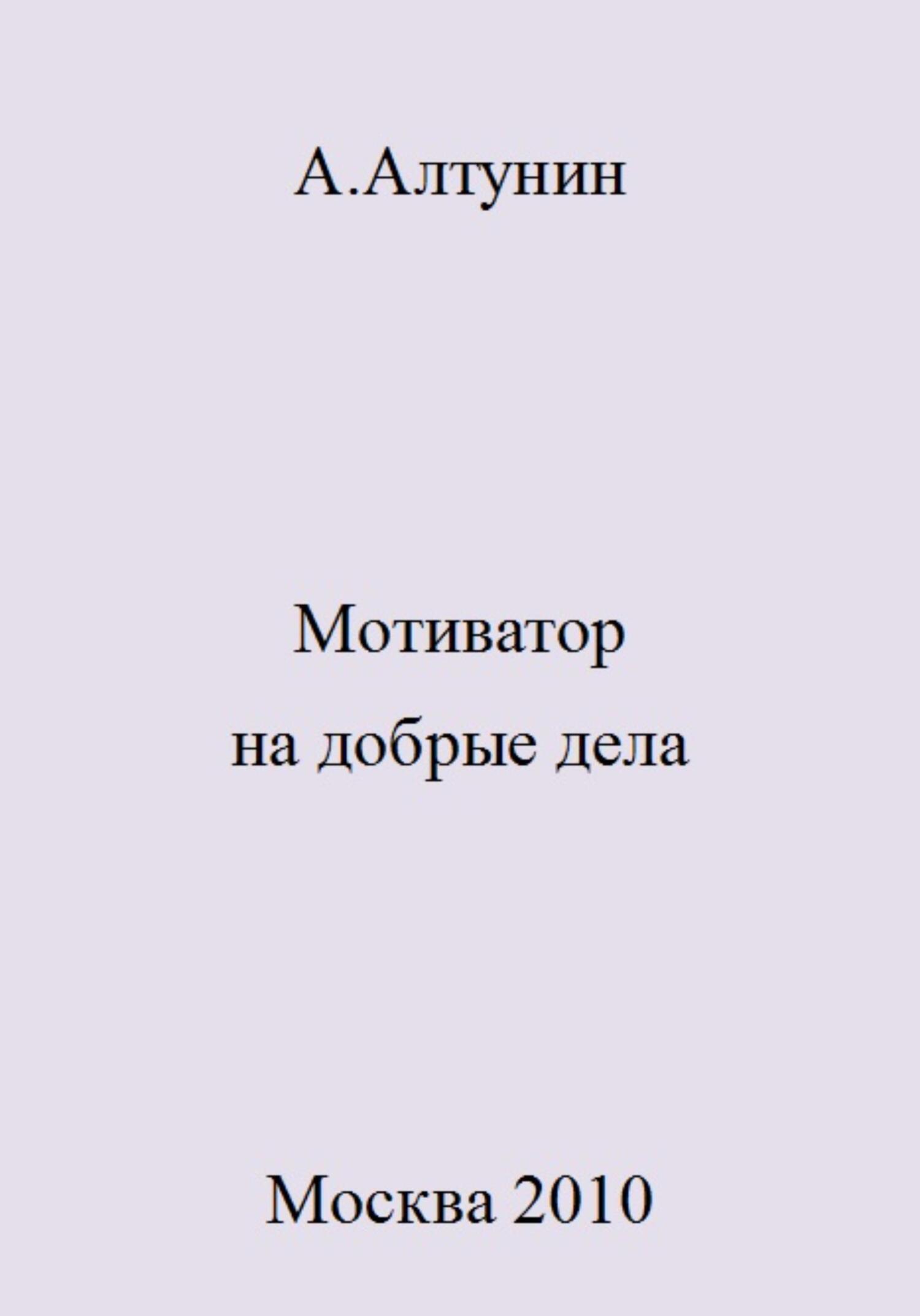Книга Философия повседневных вещей, 2011 - Вячеслав Корнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хотя и без учета этой исторической антропологии очевидно, что любая отдельная человеческая личность - это своеобразный узел сопротивления внутренним и внешним влияниям. Быть человеком - означает противостоять социальному стаду снаружи и стадному инстинкту внутри себя. Быть личностью - значит проявлять постоянное волевое усилие в отношении природы, общества, собственной телесности. Чем был бы человек без насилия в адрес естественных позывов лени, тупости, шкурного инстинкта? Даже само управление человеческим телом, как пишет Мишель Фуко в статье «Власть и тело», - это, по сути, превращение тела в объект и инструмент насилия:
Владение своим телом, осознание своего тела могло быть достигнуто лишь вследствие инвестирования в тело власти: гимнастика, упражнения, развитие мускулатуры... - все это выстраивается в цепочку, ведущую к желанию обретения собственного тела посредством упорной, настойчивой, кропотливой работы...*
Именно в зоне насилия над телом, языком, сознанием и формируется всегда пространство культуры. Одной из пер* Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2002. Ч. 1. С. 161.
94
вых теорий искусства была аристотелевская концепция катарсиса - методически организованного насилия автора над зрителем. Одним из первых жестов нового искусства - кинематографа - стал люмьеровский план несущегося прямо на зрителей поезда. С того времени прием психологического, визуального, монтажного «наезда» на зрителя стал знаковым выражением агрессивного духа кино, его бескомпромиссных силовых средств воздействия на аудиторию. Вполне в духе Аристотеля современный кинематограф практикует принцип эксплуатации человеческого страха и сострадания, эффективно вторгается в интимный мир зрителя, канализирует его эмоции в нужном направлении.
Проиллюстрирую эту важную мысль несколькими примерами. Первый пример - провокационный финал «Догвил-ля» (Dogville, режиссер Ларс фон Триер, 2003), который заставил зрителей не просто эмоционально принять расстрел бандитами населения маленького городка, но и испытать полное моральное удовлетворение таким исходом. В одном из эпизодов детей убивают на глазах матери, но едва ли один из тысячи «соучастников» этого события в кинозале испытает эмпатию в отношении именно жертв, а не убийц. Так выстроенная искуснейшим режиссером психологическая ловушка лишний раз показывает онтологическую укорененность насилия. Такой же мотив можно найти и в других знаменитых киноанатомиях агрессии: в «Заводном апельсине» (A Clockwork Orange, 1971) Стенли Кубрика, «Бонни и Клайде» (Bonnie and Clyde, 1967) Артура Пенна, «Вальсирующих» (Les Valseuses, 1974) Бертрана Блие, «Дорогой Венди» (Dear Wendy, 2005) Томаса Винтерберга и др. Невозможность выхода из заколдованного круга нетерпимости, моментально заражающая энергия жестоких сцен и характеров, психологическая ложь ненасилия - вот что ощущаешь всякий раз,
95
пересматривая эти картины (собственно, и стандартные голливудские боевики притягивают зрителей именно этим нескромным обаянием насилия).
Пример второй - сравнительный анализ Славоем Жиже-ком двух очень непохожих фильмов: «Жизнь прекрасна» (La vita e bella, 1997) Роберто Бениньи и «Торжество. Догма №1» (Festen. Dogme #1, 1998) Томаса Винтерберга. Первая картина рисует образ жертвенного отца, который, будучи вместе с сыном в нацистском концлагере, подает тому все происходящее в качестве игры с призовым вознаграждением. Всякое неудобство и наказание этот неистощимый на фантазию отец превращает лишь в очередной этап-испытание и ценой собственной жизни добивается главной цели - полностью изолирует ребенка от жуткой реальности. Другая же картина, «Торжество», рисует совершенно противоположный образ отца - настоящее чудовище под маской благопристойности, насилующее собственных детей. И вдруг Жижек резюмирует:
Короче говоря, настоящий ужас вызывает не Праотец-насильник, против которого благородный материнский отец защищает нас своим фантазийным щитом, но как раз таки этот милосердный материнский отец. Было бы по-настоящему удушающим, психозогенным опытом для ребенка иметь такого отца, как Бениньи, который своей защищающей заботой стирает все следы прибавочного наслаждения*.
В самом деле, чем станет в перспективе укутанный с головы до ног родительской заботой, тепличный сын? Сможет ли он, лишенный чувства реальности и глубины эмоционального опыта, хотя бы оценить по-настоящему жертву
* Жижек С. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие. С. 113.
96
своего отца? И наоборот: травмированный, но тем самым насильно приобщенный к реальности сын из «Торжества», без всяких сомнений, тепличным растением не будет. Потому и его бескомпромиссный бунт против родителя выглядит актом настоящего рождения личности. При этом не следует упускать из виду, как советует Жижек, еще один аспект для анализа - символическое отцовство поучающего автора и вынужденную инфантильность поучаемого зрителя. И здесь видно, что именно режиссер фильма «Жизнь прекрасна» подвергает свою аудиторию аккуратной психологической стерилизации:
.разве не создает Бениньи-отец подобного рода вымышленный щит, защищающий от травматической реальности концентрационного лагеря? Разве не поступает режиссер подобным образом и со своими зрителями? Иначе говоря, разве не обращается он со своими зрителями, как с детьми, которых нужно защищать от ужасов Холокоста, рассказывая им «безумную» сентиментальную и забавную сказку?*
Итак, скажу теперь пафосно: насилие - это повитуха человеческой личности и пружина ее истории. Каждодневное усилие быть человеком - это перманентное внутрь и наружу направляемое насилие. Кем был бы некий конструируемый социальными технологами «ненасильственный» толерантный субъект? Кастратом или, скорее, фантомом. Для животного он был бы нежизнеспособен (как прошедший обработку Алекс в «Заводном апельсине»), для человека он был бы просто полуфабрикатом. На манер знаменитого декартовского «мыслю, следовательно, существую», можно выразиться так:
Там же. С. 108.
97
«существую, когда проявляю усилие существовать». Я есть, когда я применяю силу в отношении к своему телу и духу, когда способен сопротивляться растворяющему во мне личность обществу, стаду, природе, миру. Но во избежание солипсизма следует повернуть эту формулу еще и так: объективность, фактичность моего существования доказывается встречной силой другого. Если я составляю для другого человека (а также целого общества и его инстанций) проблему, объект, адрес для применения силы, то для самого себя я в этот самый момент - личность, индивидуальность, волевая монада. При всех издержках негативного отношения ко мне со стороны другого именно сама интенция его выраженного интереса обнаруживает для меня мое существование.
В своем первозданном виде насилие бескорыстнее и чище дружбы, любви, жертвы. Так, в основе любовной коммуникации часто лежит лишь замкнутый цикл самообмана, подмена фактической субъективности функцией отражения чужого самомнения - формула любви такова: «я люблю другого не за то, что он некая истинная