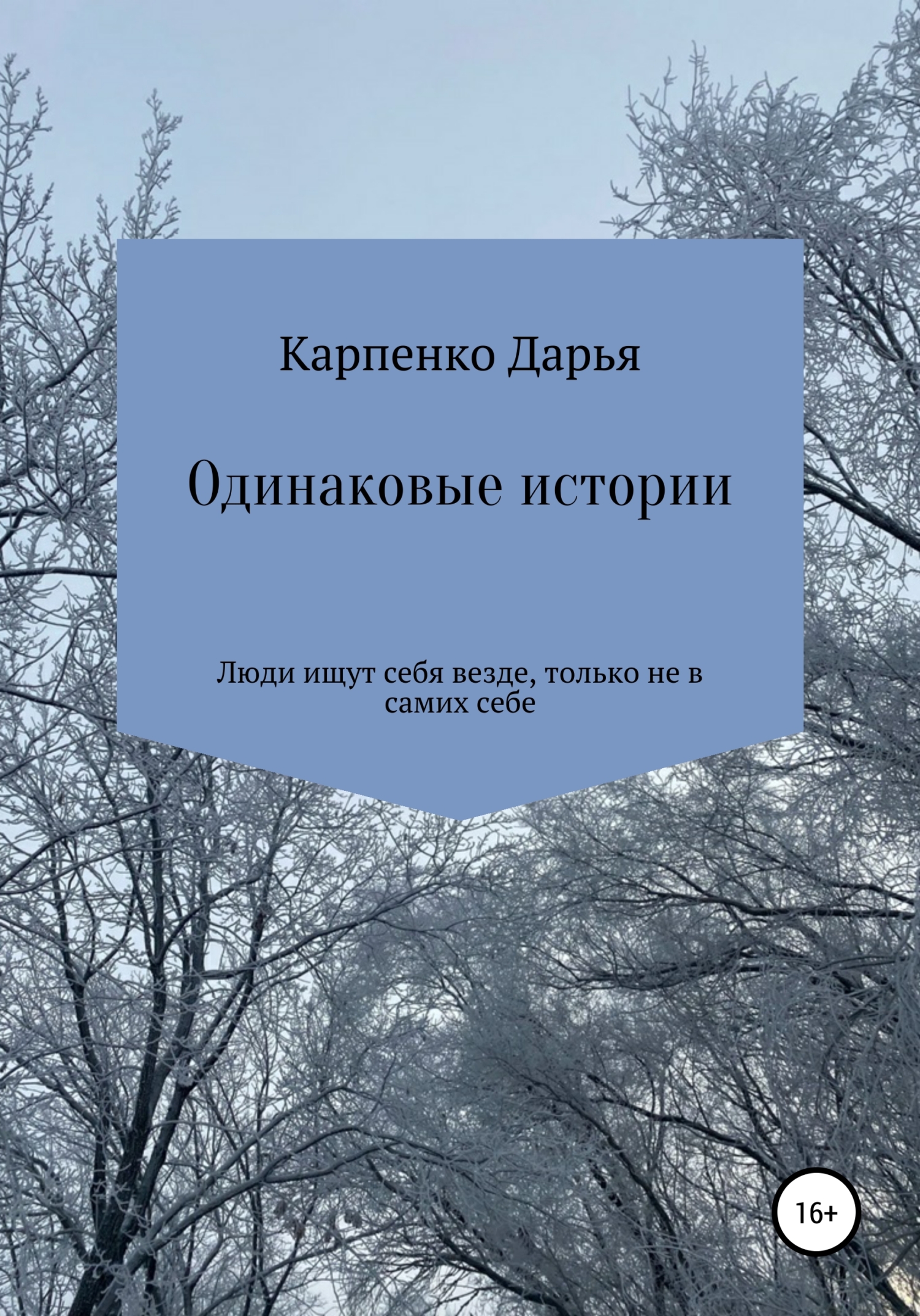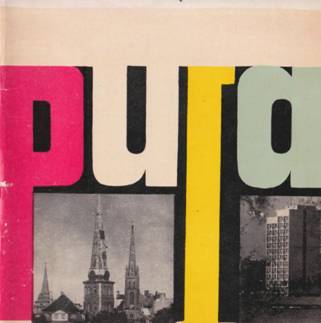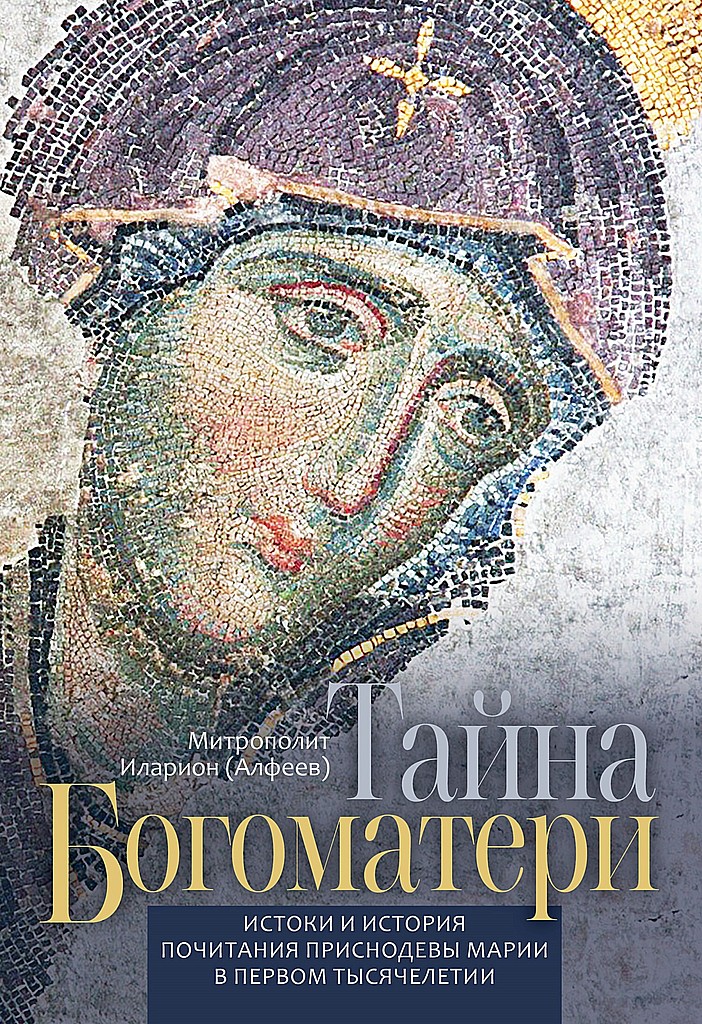Книга Шестой этаж - Лазарь Ильич Лазарев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды я был свидетелем сцены, словно бы специально поставленной для подтверждения того, о чем я говорю. Меня вызвал Кочетов в связи с материалом, который я вел. В это время зазвонила «вертушка». «Михаил Андреевич» - назвал Кочетов своего собеседника (я понял, что звонит Суслов), встал (что меня поразило) и весь дальнейший разговор вел стоя (по стойке «смирно» - определил я для себя). Соответствующим позе был и его тон. Судя по оправдывающимся репликам Кочетова, Суслов его отчитывал. Кочетов же заверял его, что учтет справедливые замечания и тотчас выполнит полученные указания. Речь шла, догадался я, о набранной и запланированной в следующий номер разгромной статье Виктора Дорофеева (был такой критик, занимавший официальное положение в комиссии по критике Союза писателей) о романе Александра Маковского «Год жизни».
Статья эта была заказана по инициативе Кочетова и одобрена им (о чем Кочетов Суслову, разумеется, не заикнулся) - Маковского Кочетов не жаловал, был рад отвесить ему на страницах газеты увесистую оплеуху, тем более, что роман «Год жизни» шедевром не был. Суслов, который, как говорили, благоволил к Маковскому, счел подготовленную статью ошибкой газеты. Разгромная статья была туг же отправлена в корзину, а вместо нее была напечатана спешно заказанная приторно комплиментарная рецензия Аркадия Эльяшевича.
Но откуда Суслов мог узнать о подготовленной статье - ведь от нашей редакции до его кабинета расстояние почти такое же, как до луны? Были две возможности, два пути. Первый - утечка информации из редакции, благодаря которой до Маковского дошли слухи о готовящемся разгроме его романа, и он пожаловался Суслову, упредил удар. Второй, более вероятный, - Суслову, зная его расположенность к Маковскому, доложили старательные сотрудники агитпропа или отдела культуры ЦК.
Дело в том, что существовал, не знаю, когда и кем заведенный, четкий порядок повседневного неусыпного партийного контроля над газетами - начав работать в «Литературке», я его еще застал - в ЦК посылался план номера и важнейшие из запланированных материалов.
Потом в пору «оттепели» на Старую площадь отправляли лишь план с краткими - в одной фразе - аннотациями основных статей, сами же статьи представлялись для предварительного просмотра уже только по требованию, если что-то в аннотациях настораживало цековских работников или у автора статьи в этом самом высоком нашем ведомстве была дурная репутация, он числился в «смутьянах». Редакторы, которым эта вторая, дополнительная цензура нередко досаждала, отравляла жизнь не меньше, чем первая, основная, были рады, разумеется, хоть такому послаблению. Считалось, что им пошли навстречу, оказали доверие, развязали руки для самостоятельных действий. На самом деле, мне кажется, тут была иная подоплека. Сотрудники ЦК, курировавшие периодическую печать, не меньше, чем редакторы, были заинтересованы в новом порядке: существенно сокращался объем работы, а главное - они избавлялись от тяготившей их постоянно чреватой неприятностями, а то и строгими взысканиями ответственности за опубликование материалов, с которыми они были или должны были быть знакомы, а высокое начальство обнаружило в этих материалах не замеченную ими крамолу.
При новом порядке ответственность редакторов возрастала, но и свободы у них становилось побольше. Те, для кого она была желанной (а желали ее далеко не все, иных страшила возраставшая ответственность), не преминули воспользоваться открывшимися возможностями, стали действовать на свой страх и риск, считая, что опубликование острой статьи, обратившей на себя внимание читателей, стоит полученного за нее замечания или выговора; случалось, и местом редакторским приходилось за это расплачиваться - некоторые шли и на это.
Что поделаешь, таков был тогда неизбежный в редакторском деле профессиональный риск. Как-то у Анатолия Аграновского мы обсуждали возможные варианты совершенно неясного исхода одной рискованной газетной акции. В нашей компании газетчиков оказался посторонний человек - незнакомый мне приятель Аграновского, то ли научный работник, то ли врач - так почему-то подумал я. Он внимательно слушал нас, а потом под конец вдруг сказал:
- И у вас, оказывается, не знаешь, где можешь гробануться.
Это был (я тихо спросил у Аграновского) летчик-испытатель Марк Галлай, один из самых блестящих представителей этой опасной профессии.
В более поздние времена, при Сергее Сергеевиче Смирнове, когда в номере стояли взрывчатые материалы, которые могли быть затребованы на Старую площадь для ознакомления (после чего, один бог знает, в каком виде они появятся на газетной полосе, да и появятся ли вообще), Косолапов, которому был не чужд азарт газетчика, несколько раз мне говорил:
- А план номера мы сегодня отправим на Старую площадь попозже, когда там уже надевают пальто и застегивают портфели.
Поразительное это было время - весна и лето после XX съезда. Возвращались из лагерей и ссылки репрессированные, началась реабилитация расстрелянных, замученных в тюрьмах. Однажды наш университетский учитель Абрам Александрович Белкин, читавший нам курс русской литературы XIX века и потом, во время космополитической кампании, изгнанный из университета, лишившийся любимого дела, что было для него и для студентов невосполнимой потерей, потому что преподавателем он был, как говорится, милостью божьей, пригласил нас, нескольких своих бывших студентов, к себе. Ему хотелось познакомить нас со своим учителем, только что возвратившимся из мест отдаленных, Валерьяном Федоровичем Переверзевым. Выяснилось, что Абрам Александрович каким-то образом поддерживал с ним связь и даже, как мог, материально помогал ему - разумеется, тайно. В пору сводившего с ума страха, когда рвались человеческие связи - жены отказывались от мужей, дети - от родителей, это был поступок, на который далеко не каждый решался. О Переверзеве, о его работах, отправленных в спецхран, мы ничего толком не знали - в читавшемся нам курсе истории критики во всю чехвостили «переверзевщину» за ревизию марксизма, за вульгарный социологизм - вот, пожалуй, и все. Абрам Александрович рассказал, что Переверзев сел в 1938 году не в первый раз. За участие в революционном движении он при царе шесть лет провел в тюрьме и в нарымской ссылке, правда, условия были несколько иными - свою первую книгу о творчестве Достоевского он написал тогда…
Мы просидели у Абрама Александровича чуть ли не до утра. Валерьян Федорович, несмотря на преклонные годы - ему было уже за семьдесят, - оказался человеком крепким, не утратившим живого интереса к окружающему миру, с какими-то удивительно веселыми глазами. Его совершенно не тяготил бесконечный сумбурный ночной разговор. Казалось, он присматривался к нам, своим литературным внукам, хотел понять, чем мы живем. Поразительно, но он был куда большим оптимистом, чем мы, не испытавшие и