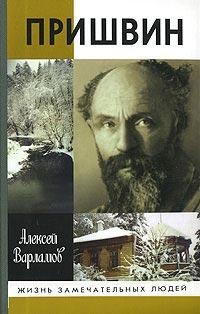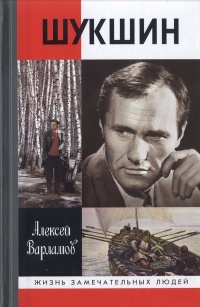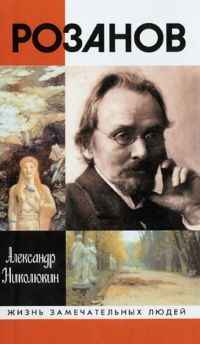Книга Михаил Булгаков - Алексей Варламов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Вы не театральный человек» – эта ироническая фраза Бомбардова из «Записок покойника» имеет очень глубокий смысл. И сколь бы долго Булгаков в театре ни служил, как бы глубоко и болезненно его ни боронили и ни бороздили, театральности, гибкости, ловкости, обходительности в нем не прибавлялось – его натура была слишком для этого черства и жестка («Вы человек неподатливый», – недаром бросает в адрес Максудова Иван Васильевич), – а скорее с годами даже убавилось. Театр в большей степени открывался для него с темной, низменной стороны. Да и обстоятельства с той поры, как он первый раз переступил порог Художественного театра, сильно переменились. В 1926-м энергичный и волевой режиссер Илья Судаков («…если ты напишешь пьесу, мой совет, добивайся, чтобы ставил Судаков», – писал Булгаков о Судакове П. С. Попову) сумел сделать с «Турбиными» то, чего не удалось выполнить десятилетие спустя стесненному обстоятельствами и менее решительному и талантливому Горчакову. Положение Горчакова в Художественном театре точнее всего можно было бы описать словами красного директора тов. Аркадьева из его докладной записки на имя Сталина осенью 1936 года. Вникнув во мхатовскую ситуацию, Аркадьев писал вождю: «…в театре оставались режиссеры, которые безропотно проводили всю черновую работу с актерами, проходили роли, подчитывали необходимую литературу и сдавали затем проделанное одному из руководителей уже для настоящей режиссерской работы. По терминологии МХАТа это называется распахать пьесу и распахать актера» [3].
«Мольера» пахали пять лет и все без толку. Он изначально не задался, не пошел. Способствовали ли тому трудный характер пьесы и ее главного героя, театральная конъюнктура, эпоха или тот факт, что Булгаков выступал не только в роли автора пьесы, но и сорежиссера, – скорее всего влияло все разом. Перефразируя Крылова, можно так сказать: в случае с «Мольером» среди актеров, среди товарищей не было самого важного – согласия. В 1925–1926 годах во время репетиций «Турбиных» и актеры, и режиссеры, и театральная администрация – все были заодно, как если бы чувствовали, какой успех и сколь долгая жизнь будет ждать этот спектакль, до сих пор идущий на сцене МХАТа имени Чехова под названием «Белая гвардия», в истории же с «Мольером» все, напротив, никуда не торопились, точно предчувствовали, что больших дивидендов постановка не принесет.
На первый взгляд это могло показаться странным: белогвардейская – или по меньшей мере воспринимаемая как белогвардейская – пьеса никому не известного автора, поставленная всего через несколько лет после окончания Гражданской войны, победила всех своих врагов и выдержала бешеную травлю и лай собак, а внешне гораздо менее провокационный спектакль о французском драматурге поза-позапрошлого века, с такими муками предъявленный публике десять лет спустя после «Турбиных», проиграл, согнулся всего под несколькими газетными ударами. Но менялось время, и Булгаков не вписывался в него, он по большому счету остался в 1920-х, когда конфликты были обнажены, когда еще велась острая, открытая фракционная борьба и его пьесы служили ее отражением, барометром. Подковерную, менее подвижную и куда более фальшивую эстетику 1930-х он как драматург не понимал, не принимал, внутренне отторгал, и, как знать, возможно, каким-то мозжечком Станиславский это почувствовал и попытался использовать неудобную, но очень сценичную пьесу в учебных целях: режиссеру был важен не результат, но процесс, поиск, эксперимент и доказательство правоты его теории. К этому стоит прибавить, что с весны 1933 года по август 1934-го основоположника не было в Москве и спектакль долгое время пребывал в бесхозном состоянии.
«Сообщения газет о том, что в МХТ пойдут „Мольер“ и „Бег“, приблизительно верны, – писал Булгаков в сентябре 1933 года брату Николаю. – Но вопрос о Мольере так затягивается (по причинам чисто внутренне театральным), что на постановку его я начинаю смотреть безнадежно…» [13; 305]
Тот же самый мотив прозвучал и в письме Павлу Сергеевичу Попову, написанном полгода спустя, 14 марта 1934 года: «„Мольер“: ну, что ж, репетируем. Но редко, медленно. И, скажу по секрету, смотрю на это мрачно. Люся без раздражения не может говорить о том, что проделывает Театр с этой пьесой. А для меня этот период волнений давно прошел. И если бы не мысль о том, что нужна новая пьеса на сцене, чтобы дальше жить, я бы и перестал о нем думать. Пойдет – хорошо, не пойдет – не надо» [13; 316].
Наконец, еще год спустя, 14 марта 1935 года все тому же Попову:
«Мною многие командуют. Теперь накомандовал Станиславский. Прогнали для него Мольера (без последней картины (не готова)), и он, вместо того чтобы разбирать постановку и игру, начал разбирать пьесу.
В присутствии актеров (на пятом году!) он стал мне рассказывать о том, что Мольер гений и как этого гения надо описывать в пьесе.
Актеры хищно обрадовались и стали просить увеличивать им роли.
Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем: пишите вы сами про гениев и про негениев, а меня не учите, я все равно не сумею» [13; 364–365].
В сущности, в этих трех письмах отражена вся драматическая репетиционная атмосфера, сложившаяся вокруг «Мольера», которого планировали ставить то на большой сцене, то в филиале, то с одним актерским составом, то с другим. На спектакль уже была истрачена куча денег, а премьера все отдалялась и отдалялась, и всё было очень зыбко, неуверенно, неопределенно – словом, театрально…
4 января 1935 года Елена Сергеевна сделала запись (в окончательной редакции сильно измененную и сокращенную):
«Сегодня целый день вспоминала знаменитый разговор с Ольгой вчера… Я слушала ее, молчала и только смотрела на нее таким взглядом!.. Это мне говорить о жалости к Афиногенову! Мне, жене Миши, которого травили и душили в продолжение всей его литературной жизни! Но дело не в этом, а вот в чем: не означают ли все эти тухлые разговоры того, что Немирович хочет опять оттеснить „Мольера“ и выпустить на скорую руку афиногеновскую пьесу с тем, чтобы укрепить свою репутацию? Тем более что, по словам Оли, „Мольер“ почему-то не может идти ни на большой сцене, ни в филиале… Я сказала только одно, что, если на этот раз театр выкинет новое издевательство с „Мольером“, – это ему не пройдет даром!
Я не знаю, кто и когда будет читать мои записи. Но пусть не удивляется он тому, что я пишу только о делах. Он не знает, в каких страшных условиях работал Михаил Булгаков, мой муж» [21; 487].
Все это так. Прозаик Божьей милостью, Михаил Булгаков действительно превращался в театрального каторжника, его привязали к театру, как к галере, и фактически никакого морального вознаграждения за свои труды он не получал (хотя не стоит забывать, что благодаря театральной службе уровень жизни в семье был достаточно высокий). И все же справедливость требует признать, что дело было не только в злой воле либо В. И. Немировича-Данченко, либо К. С. Станиславского, который до поры до времени в ход репетиций не вмешивался, а когда вмешался, то, по мнению многих участников той истории, лишь всё испортил.
Актеры МХАТа и сами плохо принимали булгаковский текст. Это прекрасно видно из процитированного выше письма Булгакова Попову, а также из дневниковых записей Елены Сергеевны – но в этих документах представлен взгляд с авторской стороны. Однако существует и другая точка зрения – актерская. Мы уже приводили высказывания Бориса Ливанова, человека очень умного и замечательного актера, пьесу возненавидевшего. К этому можно добавить, что еще в марте 1934 года, то есть за год до того, как Булгаков принялся конфликтовать со Станиславским, красавица Ангелина Степанова, назначенная своим бывшим мужем режиссером Н. М. Горчаковым на роль молодой жены Мольера Арманды, писала не кому-нибудь, а своему возлюбленному и близкому другу Булгакова драматургу Николаю Робертовичу Эрдману (он был тогда в ссылке в Енисейске): «Репетирую „Мольера“, удивляюсь на Булгакова, почему он сорежиссер и почему он считает своего „Мольера“ совершенным произведением? Моя роль мне совсем не нравится, и я репетирую формально. Особенно меня мучает язык пьесы, переводной» [184; 452–453].