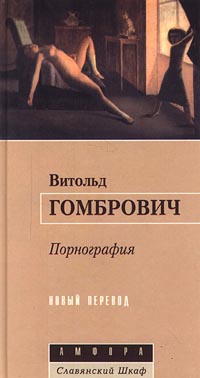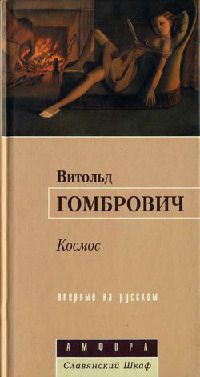Книга Дневник - Витольд Гомбрович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ингеборг Бахман, австрийская поэтесса, тоже приглашенная Фордом и жившая в той же Академии Искусств, была первой, с кем я подружился. Мы гуляли, оба слегка удивленные или даже ошеломленные этим островом в коммунистическом океане, а может, еще чем, мы мало что видели, почти ничего, вспоминаю, как меня удивило берлинское безлюдье, и когда вдалеке кто-нибудь появлялся, мы восклицали «о, человек на горизонте!» В местах чужих и далеких на меня нападает какая-то невозможность увидеть, трудность разобраться… это касается прежде всего мест необычных, экзотических… вот помню, как-то раз на верхней Паране прямо мне под нос — на расстоянии нескольких шагов — забралась полная луна, напрасно я щипал себя, светящийся шар повис над водой совсем рядом, и это была луна, сколько бы я ни убеждал себя, что это не так, но все было именно так… Сопровождающая нас в общем-то везде трудность ориентировки становится назойливой в собственном доме, в комнате, если одна или больше аномалий придадут месту характер чего-то зашифрованного. Почему Берлин показался мне в те первые дни почти пустым? Я действительно жил в парковом районе, но меня возили и по центральным улицам. Нет ответа. Фата моргана. Неделю спустя я заметил, что в Берлине есть люди, много людей.
После парижской суматохи блаженное спокойствие, блаженная тишина. Дача. Гуляю под майским солнцем по Тиргартену и щурю глаза. Никакой срочной работы, если не считать нескольких визитов, потом проф. Хёллерер свозил нас с госпожой Бахман на озеро Ванзее, где нас снимали. Несколько интервью. Каникулы. Все оставшееся позади — Аргентина, путешествие, Париж, — все застыло, все заснуло…
И тогда я уловил (когда гулял по Тиргартену) какие-то ароматы, смесь трав, воды, камней, коры, и еще чего-то не знаю чего… да, Польша, польский аромат, как в Малошицах, в Бодзехове, детство, да, да, именно они, ведь совсем недалеко, можно сказать, за межой, та же самая природа… которую я оставил четверть века назад. Смерть. Замкнулся круг, я вернулся к этим запахам, значит — смерть. Смерть. В самых разных обстоятельствах встречался я со смертью своей, но какая-то нестыковка во всех этих встречах давала надежду на жизнь, но теперь, в Тиргартене, я столкнулся со смертью лицом к лицу, и с этого момента она от меня не отстает. Не стоило покидать Америку. Почему я не понял, что Европа для меня — смерть? Ведь для такого человека, как я, для любого в моей ситуации, каждое приближение к детству, к молодости должно оказаться убийственным; и хотя потом я «удивлялся», что нечто столь эфемерное, как запах, может внезапно прервать мою жизнь, с той самой минуты в течение всего моего пребывания в Берлине смерть то и дело птицей присаживалась ко мне на плечо.
И одновременно уже законченный аргентинский период приобретал мифологический блеск. Я ходил по Тиргартену и воскрешал в памяти тот безумный момент, когда я, поляк, очутился в 1939 году в Аргентине, один, один, на земле, затерянной в океанах, земле, похожей на рыбий хвост, протянувшийся к южному полюсу; как же Аргентина одинока на карте, как затеряна в водах, отодвинута вниз, утоплена в расстояниях… Да я и сам затерян, отрезан, чужой, неизвестный, потопленный. Тогда горячечные вопли громкоговорителей рвали мои барабанные перепонки сообщениями из Европы, мучил военный вой газет, а я уже погружался в незнакомую мне речь и в жизнь, так от всего этого далекую. Что называется, момент истины. Тишина как в лесу, слышно даже жужжание мушки, после гула последних лет удивительная музыка; и в этой наполняющей все, переполняющей тишине до меня начинают доходить два исключительных, единственных в своем роде, особых слова: Витольд Гомбрович. Витольд Гомбрович. Я в Аргентину отправился случайно, только на две недели, если бы по прихоти судьбы не разразилась война, я вернулся бы в Польшу, но произошло то, что произошло: когда решение было принято и надо мной захлопнулась крышка Аргентины, только тогда я смог наконец услышать самого себя.
Двадцать четыре года оторванности от истории. Буэнос-Айрес — шестимиллионный лагерь, кочевье, иммиграция со всего земного шара, итальянцы, испанцы, поляки, немцы, японцы, венгры, все перемешано, все временно, все живет одним днем… А коренные аргентинцы свободно говорили о своей стране que porqueria de pais («свинская страна»), и эта их свобода звучала восхитительно после удушающего неистовства национализмов. В те первые дни было наслаждением ничего не знать об Аргентине, о ее партиях, программах, руководителях, не понимать что там пишут в газетах, жить как турист. Если такой туризм меня не опустошил, то лишь потому, что, по счастливому стечению обстоятельств, как человек пера, привыкший пользоваться формой, я мог взяться за формирование моей личности с этой новой позиции, в новой ситуации… и не была ли Аргентина послана мне свыше, если еще ребенком, в Польше, я делал все возможное, лишь бы не вышагивать в такт марша на параде?
Сколь благословенны были воды, громадные, перемешанные с вечностью, отделившие меня от европейской истории! А теперь… возвращение, переброска в Европу, причем в ту ее точку, которая больше остальных запятнана историей, в самое больное ее место. Теперь я понял, теперь я точно знал, что все сложится отнюдь не гладко, что вообще мое путешествие в Европу с первой же его минуты стало чем-то гораздо более опасным, чем я мог предполагать, когда в Буэнос-Айресе паковал чемоданы. К этому путешествию примешалось нечто ввергающее в безумное отчаяние. Ну кто мог знать, что смерть застанет меня врасплох в Тиргартене. Выдумка? Громкие слова? Может, и выдумка, и громкие слова, но из тех, что если уж прицепятся, то ни за что не отстанут…
* * *
Я все еще пережевывал Париж и думал о Сартре.
Кто больший провокатор — вольтеровский Панглосс или Сартр? В самом деле, ситуация примерно такая: дым пожарищ и крематориев поднимается на соответствующую высоту и выписывает в воздухе слово «свобода».
Не будем о войнах и концлагерях: призывать такими словами к свободе — провокация всегда и везде. Нам, жертвам, мученикам, рабам, по уши погрязшим в болезнях, пороках, похоти, всегда в ярме, в тяжком труде, в страхе, нам, загнанным, забитым, внушать нам, что мы свободны? Мы живем в ужасающем рабстве с раннего утра до позднего вечера… а тут «свобода»! Кровавую иронию усугубляет то, что наиболее противоречащая нашему повседневному опыту идея оказывается вполне разумной и плодотворной в самых разных своих воплощениях.
Может ли, однако, философия, отправной точкой которой является сознание, иметь много общего с существованием? Ведь само по себе сознание индифферентно к жизни. Жизнь знает лишь категории удовольствия и неудовольствия. Мир существует для нас лишь как возможность боли или наслаждения. Сознание, не являющееся сознанием боли или наслаждения, не имеет для нас значения. Я осознаю существование этого дерева — и что дальше? Мне от этого ни тепло, ни холодно. Даже будучи осознанным, бытие еще не бытие, пока я его не прочувствую. Важно как раз прочувствованное, а не осознанное бытие. А потому сознание должно быть сознанием чувствительности, а не непосредственным осознанием бытия.
Но неприятное ощущение (равно как и приятное) по сути своей противоречит понятию свободы. Сказать, что у нас остается принципиальная возможность свободы по отношению к страданию (свободы, связанной с целеполаганием, определяющим нашу систему ценностей, даже если это всего лишь «ситуационная» свобода) — значит перечеркнуть смысл этого слова. Страдание — это то, чего я не хочу, то, что я вынужден «выстрадать», основное здесь — принуждение, то есть отсутствие свободы. Трудно найти нечто более противоположное, чем страдание и свобода.